Огонь, вода и медные трубы батюшки-блогера
В книге рассказывается о жизни и служении протоиерея Геннадия Шкиля – пастыря, никогда не скрывавшего своей активной гражданской позиции и не боящегося говорить вслух самые нелицеприятные вещи.
Посвящается матушке Анастасии и
всем простым святым людям, миру не ведомым,
но стоящим пред Богом и молящимся за нас.
В маленьком окошке с ситцевыми занавесками в голубой цветочек тихо догорал закат. Попавшая между рамами муха, раздраженно жужжа, билась о стекло и никак не могла сообразить, что, поднимись она немного выше, – вот тебе форточка и драгоценная свобода. Нет. Она вновь и вновь истерично, со всей своей мушиной жаждой жизни билась в ставший вдруг твердым воздух. Путь на волю указать было некому. А ее назойливое жужжание совсем некстати нарушало тишину наступающего вечера. Баба Шура отбросила творожную сыворотку на дуршлаг, вытерла руки о передник. Медленно перекрестясь, потянулась к иконам зажечь лампадку. «Слава Тебе, Господи наш, слава Тебе, показавшему нам свет. Прости нам, Милосердный Господи, ибо не ведаем, что творим. Какой сегодня был суетный день. Опять прибегала Акулина. Бедная... Прости ей, Господи Великодушный. Ты всем нам прощаешь. Не отвержи мою скудную молитву о ней. Может, смягчится... Ведь мечется, страдает».
Сегодня, позвонив в дверь, не переступая порога, Акулина стала кричать: «Опять на коленках все ползаешь? Молишься все? А что Он тебе сделал-то, Бог твой? Кроме нищеты да тюряги. Ну хоть какая-нибудь польза была бы в жизни. Я бы, может, и поверила. Ан нет, одни тягости. Нарожала детей – да и в Сибирь. А брат мой грыжу рвал с ними. И ничего им не дала. Арестантка...» Еще что-то погрозила и убежала.
«Господи, бедная она, бедная. Совсем плоха стала. Она ведь и добрая, и веселая была. Да вот отец их покойный, Прохор Семеныч, коммунист был и приучил. Прохор Семеныч – человек суровый, но справедливый. Свекровь молилась да всегда молчала, а он вот неверующий. Господи, помилуй, а время-то какое было? Страшное время. Ушел Ты, Господи, от нас, вот сердца-то и окаменели. Жестокосердые стали...»
Эти Акулинины набеги всегда приводили бабу Шуру в грустное, жалостливое состояние. «Больная совсем стала, и ум у нее теряется. Как жалко», – вздыхала она.
В юности Акулина была не так красива, как бойка, озорна, – частушки на ходу сочиняла. Прохор Семеныч только возьмется вечерком за трехрядку, а она тут как тут куплеты петь, да с притопом. И не злая была, а так – вспыльчивая. Поперек дороги ей не встань и палец в рот не клади – голову откусит. А Сашу, невестку свою, невзлюбила еще с детства. Та сирота была, все по людям белье стирала, полы мыла, чужие огороды полола. Акулина обзывала ее «побирушкой», «собакой приблудной» и еще «богомолкой». «Молчит всё. Глаза-то опустит, слова не выбьешь. А что у нее на уме? В тихом омуте...» – говорила она подружкам. Александра еще и красавица была, видная, статная. Это тоже принималось Акулиной как личное оскорбление.
Сережку, брата своего, Акулина почитала и слушалась. Семья у них зажиточная была, крепкая. Батя, Прохор Семеныч, в секретарях ходил. Все шло хорошо. А тут беда, Сергуня-то как уперся: «Женюсь на Шурке-сироте, и всё тут. А не то совсем из дома уйду». Что делать будешь? «Присушила, подлая... – жужжала Акулина родителям, пока брата не было дома. – Мало ли что она в церкви своей шептала». Так Александра и вошла в этот дом.
Всю их предсвадебную ночь Акулина с досады провыла. И слышала, что Сергей куда-то уходил, и подумалось ей почему-то, что в церковь, может, даже венчаться. «У, проклятая богомолка», – ругалась Акулина в подушку.
А уж после свадьбы она ей задала жизни. Сергей уйдет в поле, отец в сельсовет, мать на коровник. Акулина то золу рассыплет по полу (а полы у них деревянные, поди отскреби), то огонь в печке зальет, то щи ее пересолит. Прохор Семеныч давай ругаться: вспыльчивый был. «Пусть Бог ей печку топит», – злорадствовала Акулина. А по вечерам, когда вся семья собиралась у лампы поговорить о том о сем, она любила заводить ехидные разговоры о Сашиной вере:
– Что же ты так Бога любишь? Он же тебя сиротой бесштанной оставил. Где родители-то твои? Померли?
– Война была.
– Война? А как же Он допустил ее, войну-то, если Он всё может и всех любит? Я вот не верю в Него – и мои родители живы. Ну пусть Он покажется, я в Него поверю. Где? Нет Его.
У Сашеньки болезненно кривилось лицо. Она не могла промолчать, когда такое говорилось о Самом Любимом и Добром. Она молилась Ему всегда: приучила покойная мать. Оставшись с детства одна, без советчиков и сострадателей, она привыкла доверять Ему свои боли и скорби и у Него просить помощи и защиты. И всегда с радостью видела, что Он никогда не оставлял без внимания этих просьб. Сашина жизнь была трудной и многоскорбной, но случались и тихие утешения, о которых знали только она и Бог.
Оставшись с детства одна, она привыкла доверять Ему свои боли и скорби и у Него просить помощи и защиты
– Бог нас любит. Бог никого воевать не учит и не заставляет. Он говорит: «Люби ближних своих». Он говорит: «Всем прости – и любящим, и обижающим. Просят у тебя рубашку – последнюю отдай».
– Это не про тебя. Тебе-то что отдавать, на чужое пришла.
– Цыть ты, Акулина! – вмешивался обычно Прохор Семеныч. – А ты, Александра, религиозные агитки здесь не разводи. Ты можешь верить во что хочешь. А нас не тронь. Мы коммунисты. Мы в Бога не верим. Да и в церкву кончай ходить. Вон время-то какое. Что вокруг деится... Ты думай. – Он где-то в душе переживал за Сашу, добрая она, работящая.
Сергей в жене души не чаял. Очень жалел. Любил ее спокойные, ласковые глаза, мягкий, глубокий голос. Всё ей прощал: и Бога, и церковь, и сиротство, и бедность. И даже венчался тайно ночью. Это был ее уговор. Он, конечно, человек неверующий, но кто его знает. Как-то всё прошло очень волнительно и запомнилось навсегда. Церковный полумрак, тихий голос священника, свечи, венцы, какой-то особый запах и манящий свет лампады в алтаре, перед иконой Спасителя. Эта икона вставала перед ним потом на военных дорогах. Вспомнится она и в той последней танковой атаке на Курской дуге, где он, подбив шесть «тигров», будет убит осколочной гранатой. Последнее, что пронесется перед затухающим взором, – эта лампада у Лика Спасителя, непостижимая голубая даль и в глубине сердца слова: «Господи, прости и помилуй...»
Сергей всячески старался оградить Сашу от сестриной не то зависти, не то детской ревности. Он не знал, что по ночам Александра выходила в холодные сени и долго на коленях плакала и молилась о нем, о его семье, о смягчении Акулинушкиного сердца. И благодарила Господа, что Он пожалел ее сиротство и послал ей такого хорошего мужа.
Через некоторое время стали рождаться дети. Сначала большое семейное утешение – двойняшки Вадим и Настя. Потом Коленька и совсем крохотная Анечка. Акулина стихла и почти простила Сашу. Она любила своих маленьких племяшек. И уже было наступила семейная тишина. Как вдруг однажды в сельсовете Прохора Семеныча предупредили, что скоро заберут его сноху Александру как верующую. На нее поступили письма, правда анонимные, но всем известно, что она почти до конца ходила в церковь к священнику, которого на днях арестовали. Теперь такое время: закрывать глаза на эти факты и письма никто не может. Но ничего, ей нужно будет только отказаться от всей этой чепухи, срок дадут поменьше. Скоро придет обратно. А может, совсем отпустят. Сергея, конечно, брать не будут: он тракторист хороший...
Дома всем семейством пытались вразумить Александру.
– Ты пойми, у тебя дети. Ты что за мать такая? – Прохор Семеныч нервно ходил по комнате. – Да ты верь в душе. А в НКВД скажешь, что не веришь, что Бога нет. Поняла? Александра, смотри. Всю десятку дадут. Сгинешь там, бестолковая. Дался тебе этот Бог.
– Да ты че, – кипятилась Акулина, – ты еще и веришь? Он тебя в каторгу, а ты Ему лбом пойдешь стучать? Детей пожалей. – Она так разошлась, что ее било нервной дрожью. – Я тебя ненавидеть буду, Шурка. Ты в Него не ве-ришь... Поняла?
Одна свекровь молчала, как всегда. Сергей тоже вдруг потерялся и ушел в себя. Скоро заберут его любимую Сашу. То есть чужие, грубые люди возьмут и уведут от него. Может, навсегда. И он ничего не может с этим поделать. В душе наступила холодная пустота и удушье какой-то животной тоски. Хотелось выть на керосиновую лампу, биться головой о стену. Сердце пронизывала невыносимая боль, когда он смотрел на дорогое грустное лицо жены. «Акулька права. Да будь оно все проклято. Это все равно что живую в гроб положат. Это что же?! Может, уговорю».
– Саша… У нас ведь дети. А Бог, если бы Он был, то допустил бы до этого? Он что, злой у тебя?
Шура молчала и, как всегда в таких случаях, смотрела в пол.
– Бог нас любит и жалеет. Это мы сами от Него отреклись и стали хуже волков. Кровожадные, едим друг друга.
– Ты опять? – Прохор Семеныч в изнеможении опустился на скамейку. У Сергея побежал холод по спине. Он понял, что теряет ее навсегда.
А через несколько дней ночью пришли… И, предъявив бумагу на Красавину Александру Михайловну, предложили пройти с ними. Вещи были собраны заранее. Детей будить не стали. Шура поцеловала их сонными, незаметно перекрестила: «Господи, не оставь. Да будет воля Твоя святая на нас». Всё произошло в полном молчании. После того как увели жену, Сергей пошел на сеновал и там пролежал не шелохнувшись несколько дней. Веселым его больше никогда не видели.
В уездном НКВД на вопрос о вере Александра ответила, что верует в Бога – Пресвятую Троицу, Царицу Небесную, Заступницу, всех святых и Небесные силы... Не отказалась от того, что работала в церкви при священнике, которого расстреляли на днях. Дали срок, сорвали крест. И отправили в теплушечное путешествие по стране, в места столь отдаленные и очень холодные. Лежа в углу на грязной соломе, она утирала слезы, а из мрака выплывали хорошенькое Настенькино личико, измазанное черникой, Прохор Семеныч, запрягающий хромого Рыжика. Вспоминать про Сергея она себе запрещала. Колеса отбивали такты, которые сливались с молитвой утешения: «Богородице Дево, радуйся…» А затем в скорбной душе рождалась уже не молитва, а призыв отчаяния о близких сердцу, оставшихся на воле: «Матерь Божия, не покинь… На Тебя надеюсь. Пошли им защиту и Покров Свой».
В уездном НКВД на вопрос о вере Александра ответила, что верует в Бога – Пресвятую Троицу, Царицу Небесную, всех святых и Небесные силы
На месте, куда ее переслали, ожидала первая маленькая радость: барачная публика попалась, можно сказать, приличная. Сам лагерь стоял на острове. Барак был полон крестьянскими женщинами из шумевших тогда по стране дел о «колосках». Годы эти выдались засушливыми и неурожайными, многие районы бедствовали. Детишки опухали от голода; поев вареной лебеды или древесной коры, умирали от кровавого поноса. И бедные матери с отчаяния пробирались по ночам на поля и срезали сколько удавалось колосьев пшеницы, чтобы дома, хорошенько их растерев, сварить немного похлебки и накормить голодающих ребятишек. Смотреть опустив руки, как умирают дети, они не могли. И, лишенные иных, кроме воровства, возможностей избежать голодной смерти, становились преступницами, осмелившимися посягнуть на их руками возделанное, но колхозное добро. Ночью по полям ходили сторожа. Вылавливали неудачниц. Стыдили. Позорили. Свозили в местное НКВД и там давали кому пятерочку, кому семерочку, а кому и все десять... Таких «врагов народа» было большинство в бараке: добродушных крестьянок, всхлипывающих по ночам об увиденных во сне деревнях.
Но лучший угол облюбовали уголовницы. С ними никто не спорил. По счастью, заселенные малым числом, командовать они не решались. С остальными жилицами барака, не их круга, общаться не желали. Жизнь вели буйную и вызывающую. Все вопросы и недоразумения между преступным и остальным барачным миром выясняла и улаживала уголовница Любка-кассирша.
Для коллекции в бараке имелась небольшая группа жен репрессированных ответственных работников. Этих новосоветских барынь, еще вчера гордившихся своими высокопоставленными мужьями, ездивших в блестящих черных автомобилях, щеголявших в заграничных туалетах, – сегодня в смрадном, полутемном бараке, в ватниках и бушлатах, невозможно было отличить от репрессированных крестьянок. И такую вновь прибывшую бывшую жену недавнего комиссара в скором времени трудно было не перепутать с тетей Груней из Поддубовки.
«Господи, какая всё суета, – думала Шура, приглядываясь к барачным порядкам. – Вот она, жизнь. Что коммунисты сладко ели, долго спали, что беднота голодовала. А где все очутились? Конец один. Все мы, Господи, равны перед Тобою. И пойдем на Суд. Кем бы мы здесь ни были...»
Из всех барачных жилиц ее сердце обратилось к двум абсолютно разным женщинам.
Одна – бывшая актриса московского театра, жена недавно репрессированного работника французского посольства. Это было некое исключение из правила. От остальных бывших жен Ирина отличалась замечательной красотой и скромностью. Даже ватник, как ни странно, был ей к лицу. В своем несуразном одеянии она оставалась воплощением женственности. Ирина иногда негромко пела. Ее прекрасный высокий голос скрашивал серые, тоскливые вечера, раздвигал пространство и уносил всех куда-то высоко и далеко из страшного лагеря. У Александры был низкий, глубокий голос, она пробовала подпевать знакомые песни. Они спелись и подружились. Произошло поразительное: под влиянием этой великолепной дамы в ватнике Шурка-молчунья, с детства привыкшая к одним оскорблениям и упрекам, Шурка-дичок, вдруг оттаяла, вышла из своей замороженности и разговорилась. Она рассказала и выплакала Ирине самое дорогое: о семье, детишках, очень многое говорила о Боге. Ира внимательно и чутко слушала свою новую крестьянскую красавицу подругу. Из дали времен вставали детские грезы. Покойная мать ведет ее причащаться. Она исповедуется в своих мучительных страхах большого коридора, ведущего к детской. Светлый праздник Рождества. В гостиной стоит огромная елка, горят свечи, множество детишек на празднике. Любимые мама и папа. Маленькая Ирочка, в платьице из голубого газа, с огромным бантом, поет гостям... Незаметно, исподволь, Сашенька стала учить Ирину петь молитвы и что помнила из церковной службы...
И еще одна женщина очень занимала Шуру. К этой неугомонной личности никто, начиная с рецидивисток и кончая начальством лагеря, равнодушным остаться не мог. Ее называли как кому вздумается. Но основное прозвище, закрепившееся за ней, – тетя Дуся Божий Человек. Она сидела уже давно, с 1918 года, и по разным лагерям. В своей тюремной одиссее повидала много интереснейших людей этой кровавой эпохи. И ей было что рассказать потомкам. Возраста своего она сама толком не знала, говорила, лет под девяносто. Маленькая, сухонькая, всегда живая, скорая на язык, она обычно сидела на нарах, кутаясь в какие-то совершенно невозможные тряпки и лохмотья. И если что-нибудь говорила, то все смеялись, да смекали. Сроки заключения давно прошли, но она слезно просила начальство не отправлять ее «туда». Старушку и оставили, как местную реликвию.
Пока работали, тетя Дуся дневалила. Подметала полы в бараке, зимой топила печь, а иногда, может забавы ради, открывала барачную дверь и, размахивая тряпкой, бегала вокруг стола. Это у нее называлось «проветриванием». «Дух дурной гоняю», – отвечала она сердившимся. На вопросы, почему не едет домой, присказывала: «А сейчас что Москва, что тюрьма. Все едино. Здесь хоть накормят задарма. А там еще и пинков надают». Речи эти отдавали крамолой, но она была так стара и ветха, что даже стукачи махнули рукой. И ей прощалось решительно всё. Делали вид, что не слышат. Жалко было.
Посадили ее за барчука. Давным-давно, еще крепостной девушкой, один известный генерал взял ее к себе в семью нянькой. Так и прижилась. Сначала вынянчила папеньку. Потом ихнего сынка-офицера. А в 1918 году уже стара была, внучка нянчила, Мишеньку. Уж как его любила, маленького. И маменьку его, барыню. «Такая она беленькая была, нежненькая, добренькая, – вспоминала, заливаясь слезами, тетя Дуся. – Пока ихний супруг, Петр Аркадьевич, воевал, понятно где, мы в имении ихнем жили. А тут большевики грабить, да все пьянее вина. И порубили: и барыню, и Мишеньку. Я уж укрыть пыталась маненького, да не дали. «Радуйся, – говорят, – ты трудовой элемент. А мы тебя освободили от эксплуататорской гидры». Я им сказала насчет гидры. Они меня в Чека. И отправили. И пошла ходить по лагерям. А я вам скажу, в чем дело. Всё с воли началось. Это когда людям свободу дали. Вольному воля, а рай спасенному. Вот до чего воля доводит-то!.. – говорила она, стуча по нарам рукой. – Была бы бабка Дуся ничем, – говорила она сама себе, – доживала бы свой век при генералах... Теперь стала бабка Дуся всем... Сидит на нарах и думу думает».
«А я вам скажу, в чем дело. Всё с воли началось. Это когда людям свободу дали. Вольному воля, а рай спасенному. Вот до чего воля доводит-то!..» – говорила она, стуча по нарам рукой
Скажет так-то, повернется на бок и давай храпеть. Человек барачный. А когда стали появляться на нарах первые «бабы-колоски», она долго сидела пригорюнившись, качала головой, что-то бурчала себе под нос. А потом выдала: «А при Царе-то батюшке голодавшим хлеб за так раздавали. Я помню». И надолго замолчала.
Александра всем сердцем тянулась к этой старой женщине. Ухаживала за ней. Однажды тетя Дуся прихворнула, что-то закашляла. Уголовницы раздобыли для лечения спиртику. Шура растирала ей спину. А она и говорит:
– Ты, Сашенька, умница, добрая. Ты скоро уйдешь от нас. Детки плачут, мамку ждут...
– У всех детки мамок ждут. Ты че, тетя Дуся. Куда с этого острова денишси? Нечто птицей полечу?
– А вот подружка твоя, певунья-то, долго не заживется. Возьмет Бог душу на покой. И я тоже ведь скоро помру. А что потом будет, что будет, – у тети Дуси глаза округлились. – Весь народ глаза проплачет. Страсть что будет.
Непонятный разговор запал в Сашину душу. И не знала она, что про это думать.
Тюремные дни тянулись медленно, тоскливо и серо. Тяжелая, непосильная работа каждый день. Оскорбления охранников. Мат уголовниц, особенно когда они не могли что-то поделить, безобразно дрались и переставали походить на людей. Многие опускались. Сырой смрад барака постепенно, каплю за каплей, высасывал жизнь. В дождливую погоду его углы отсыревали, протекали, с потолка капало. Эти монотонные капели особенным унынием отзывались в сердце. Зимой начинался ледник, спали в одежде. Злополучные углы промерзали насквозь, на них проступал иней. Ирина все время грустнела, уходила в себя, под глазами легли тени, еще вдобавок стала покашливать.
Чтобы как-то согреться и ободриться, все вместе собирались и пели песни. Незаметно перешли на молитвы. Как это произошло, никто вспомнить не мог. Сначала Сашенька с Ириной спевались на два голоса «Богородицу...». Затем ее стали подхватывать остальные барачные домочадцы. Незаметно разучили «Свете Тихий…». Но больше всего любили «Милосердия двери отверзи нам...». Эту молитву распевали тихо, но от всего сердца темными зимними вечерами. В ней выплакивали свое непосильное горе и одиночество, скорбь выпавших мучений, разлуку с ближними. Когда пели, плакал весь барак, даже уголовницы. Пели и плакали Царице Небесной свое отчаяние.
Больше всего любили «Милосердия двери отверзи нам...» – пели и плакали Царице Небесной свое отчаяние
Эти сладостные общие слезы приносили утешение. После них становилось легче и даже радостней. Это была самая искренняя молитва о смягчении всего утопающего в крови и злобе мира.
«Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице… – Матерь Божия, не оставь нас, бедных и сирых. Ты никому, стучащему в двери Твоего милосердия, не отказываешь. Утешение и Прибежище наше, умягчи сердца всех злых, утопивших нашу землю в крови и слезах, чтоб и в их окаменевших сердцах проснулась хоть капля жалости к униженным ближним – …надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед… – Ты наша Премилосердная Матерь, о нас, как о детях, заботящаяся, и мы, как птенцы, распростертыми крылами помощи Твоей всегда защищаемые, и посреди сени смертной не убоимся зла, с нами милость и помощь Твоя – …Ты бо еси спасение рода христианскаго».
Прошло несколько лагерных лет, изменивших даже барачную монотонность. Некоторые счастливицы были отпущены на волю. Кто-то умер или был переведен в другие места. Вместо них приходили звероподобные уголовницы. Жить стало невыносимо.
И вдруг легко и неожиданно умерла тетя Дуся. Эта смерть в их беспросвете произвела на людей странное светлое впечатление. Одна из женщин услышала, что она странно вздыхает. Подошли посмотреть: «Ты чего?» – и замерли. Тетя Дуся лежала с просветленным лицом, с устремленным вдаль взглядом. Три раза вздохнула, медленно перекрестилась и отошла. Саша про себя прочитала над ней молитвы. Об этом событии вспоминали и говорили долго. Вскоре умерла Ирина. Перед концом она много плакала. Сашенька утешала ее, а когда Ирина ушла, жизнь ей стала невтерпеж.
Шли первые месяцы Великой Отечественной войны. Саша погрузилась в мрак отчаяния. Плакала ночи напролет, пыталась молиться, но начала одолевать невозможная скорбь. Мозг сверлила мысль, что она больше не может это выносить и жить дальше. Уж лучше веревка. И когда она решила, что гибнет, ей приснился сон. Как выяснилось позже, был день «Всех скорбящих Радости». Во сне она увидела светлый, бирюзовой зелени луг в ярких, неведомых цветах. Голубое теплое небо. Впереди шла чудная Женщина. Она полуобернулась к Саше и сказала нежно и властно: «Иди за Мной, не бойся». Саша затрепетала от звуков ласкового голоса, а сердце отозвалось неизъяснимой радостью. Она пошла следом. Стали подниматься в горку. Взошли, и Сашенька ахнула от раскинувшегося простора колосящегося золотом поля, утонувшего в необъятном, ставшем вдруг близким небе. «Иди вперед, – опять властно сказала Женщина. – Иди и ничего не бойся. Иди». Саша пошла вперед и в этот момент проснулась. Долго лежала неподвижно, размышляла: «Батюшка говорил, что в сны верить нельзя. Но такое... До сих пор радость». На ум пришло воспоминание странных слов тети Дуси, сбывшихся наполовину. И вдруг она поняла: ей надо уходить из лагеря. И она это сделает.
После смерти тети Дуси Саша стала дневальной и днем оставалась в бараке. Утром, когда все ушли на работу, она взяла ведра и пошла за водой к бочке, стоящей у ворот лагеря. Привезли новых заключенных, охрана кричала и суетилась у грузовиков. Саша знала: надо уходить. Не давая себе времени на сомнение, она вышла из ворот; никто не обратил внимания. Оказавшись за лагерными стенами, вспомнила, что забыла Казанскую икону Божией Матери, а без нее никак нельзя, и вернулась обратно. Вытащила спрятанный в матрасе образок, снова взялась за ведра. И второй раз прошла незамеченной, но через некоторое время озадаченный охранник увидел следы, уходящие к озеру. Он пошел по ним и на берегу с изумлением увидел: какая-то заключенная перешла замерзшую воду и тихо семенит по полю. «О тебе дура, – присвистнул энкэвэдешник. – Ай, стрелять уже бесполезно! Ну ничего, далеко не удерет». И он побежал собирать ребят в погоню. Когда другие узнали, что одна из «зека» совершила побег, взревели:
– Ну дает, чокнутая. Ужо мы ее, как зайца, погоняем. – В предвкушении травли хлопали руками.
– Куда она в поле убежит, зараза!
– Чокнутая…
Когда Сашенька услышала за спиной конский топот и поняла, что это погоня, не испугалась, а стала молиться: «Мамочка моя Небесная, иду я маленькая, в огромном поле. Спрячь меня. Сделай так, чтобы они не увидели». Шла вперед и молилась. И что произошло потом – это было как во сне. Она сошла с дороги в снег. А сани с шумом прокатили мимо. Шура, онемев от испуга, постояла немного и пошла дальше. Через некоторое время навстречу неслись эти же сани. И опять мимо... Охранники ее не заметили.
В лагере была паника. Средь бела дня, в чистом поле пропала заключенная. Сначала погоня видела ее впереди, пыталась нагнать. А женщины вдруг не стало на дороге... Ворота закрыли. По всем баракам шли шмоны. На всех нашел необъяснимый, безотчетный страх. Под конец, в связи с нынешней военной неразберихой и темной этой историей, решили списать беглянку как умершую.
Первые месяцы войны: сплошное отступление наших войск по всем направлениям. Но, как ни удивительно, огромное горе сделало с людьми чудо, как будто сняли сковавший их ледяной обруч. Народ почувствовал себя огромной семьей, в которую пришла одна общая беда. И люди старались помогать друг другу. Саша добиралась домой. А перед глазами неотступно вставало белое поле, скрип промчавшихся мимо саней. Она не могла это осмыслить и понять: «Господи, что произошло? Как я вышла на свободу? Такая же, как все... Ничего особенного».
Огромное горе сделало с людьми чудо: народ почувствовал себя огромной семьей, в которую пришла одна общая беда
Родная деревня выглядела скособоченной и осиротевшей. Семья зияла пробоинами потерь. Свекровь уже умерла, и от горячки сгорела любимица Анечка. Сергея, Прохора Семеныча и молодого Акулининого мужа мобилизовали в первые дни войны.
Дети маму сначала не узнали, но потом так обрадовались, что не отходили ни на шаг, держась за ее юбку. Акулина, повзрослевшая, но такая же нервная, хмуро, не глядя в глаза, выслушала Шуру. А потом сказала, что, как она вышла и пришла, ее не касается, болтать она, конечно, не собирается, но под одной крышей им будет тесно, пусть ищет себе другое жилье, а потом забирает детей.
Новый председатель колхоза, дородная баба-солдатка Анфиса, выслушав ее, спросила: «Божия Матерь вывела? Ну, молись за моего мужика, чтобы и его вывела и довела. Есть у нас домишко заколоченный. Полы земляные, крыша течет. Но печка хорошая. Будешь работать, как все. Поможем, чем сможем, время-то вот какое пришло. Ты не болтай только...» Так вышла Александра на свободу. Вывела ее Царица Небесная, сирых Заступница. «Правду ты сказала, тетя Дуся Божий Человек», – вспоминала Шура и молилась об упокоении ее многострадальной души.
Как они с детьми пережили эту войну, одному Богу известно. Кое-какую одежду и кухонную утварь нанесли сердобольные соседки. Чем-то Акулина поделилась, сердце у нее тоже было не булыжник. Голодали. Несколько раз умирали от голода. Да Бог не дал. Саша часто рассказывала детишкам про лагерь, про людей, но больше всего слушали про Бога. А еще любили петь по вечерам всей семьей, и особенно «Милосердия двери отверзи нам…».
Саша часто рассказывала детишкам про лагерь, про людей, но больше всего слушали про Бога
Тяжело пережила Саша смерть любимого мужа. Сергей Героем Советского Союза навсегда остался на Курской дуге... А потом сказала себе и детям: «Бог знает, когда лучше всего уйти душе. Нам без папки тяжело, а ему с Богом лучше. Он смотрит на нас с Неба и молится, и мы за него молиться будем». В последние месяцы войны где-то в чужой земле, в братской могиле, похоронили свекра Прохора Семеныча. Многие тогда ушли навсегда. А оставшимся на земле нужно было дальше жить и страдать вместе со своей горемычной Родиной.
Тетя Шура работала. Ставила на ноги детей. Ничего, что в доме не было даже постельного белья, ночью укрывались тем, в чем ходили днем, а едой был хлеб, картошка да квашеная капуста. Слава Богу за всё. А дети росли веселыми и учились хорошо. И, надо сказать, неплохие у нее получились дети. Через все скорби и страдания она вынесла и твердо научила их одному: «С нами Бог».
Через все скорби и страдания она вынесла и твердо научила их одному: «С нами Бог»
Много всего было в ее жизни. Перепись населения 1959 года выявила, что гражданка Александра Михайловна Красавина проживает вообще нигде не записанная. Тетю Шуру опять посадили. Но, к счастью, в этот раз уже ненадолго. Те страшные времена для крестьянства все-таки уходили в Лету. Ее скоро выпустили и оформили документы.
Вся жизнь прошла у нее крайне бедно и стесненно: узок путь ко спасению. Но были, конечно, в ее судьбе счастливые моменты. Самый радостный след оставила поездка в далекую Москву, в Троице-Сергиеву Лавру. Поклониться Преподобному она мечтала давно. Но нужно было работать, денег всегда не хватало. Она из своего убогого далека молилась святому Сергию и кланялась Лавре, откладывая поездку на лучшие времена, а они всё не наступали. И однажды тетя Шура поняла: ей необходимо ехать в Лавру – и засобиралась в Москву. Денег хватало только в один конец и немного на жизнь. Она положилась на волю Божию и отправилась в путь.
Когда баба Шура вспоминает про эту поездку в Троице-Сергиеву Лавру, сразу вся преображается и лицо ее делается торжественным. Так же спокойно и значительно рассказывает она о благодатных храмах Лавры, золотых крестах и голубых куполах и о душевном мире, нисходящем на всякого человека, окунувшегося в этот духовный родник русской православной веры.
Тетя Шура со слезами обошла все иконы. Искупалась в святом источнике. Поклонилась и приложилась к чудотворным мощам преподобного Сергия и не отходила от него несколько дней. Дома церковь была далеко от их деревни, превратившейся к тому времени в поселок. Она не имела возможности ходить в храм каждое воскресенье. И только по большим праздникам добиралась в свой любимый Божий дом.
У раки святого Сергия было светло и радостно. Здесь она отдала молитве душу. Так легко ей нигде не молилось. На третий день паломничества прямо в храме у преподобного Сергия к тете Шуре подошла очень хорошо и, можно сказать, богато одетая женщина и попросила помыть у нее в коммунальной квартире полы в коридоре и туалет, так как она сама после операции и сделать это не в силах. Может быть, религиозные чувства кого-то были бы задеты таким предложением в святом месте, но тетя Александра пребывала в таком состоянии души, когда человек живет по другим законам бытия. Она тихо согласилась помочь. И так угодила этой даме, вымыв и вычистив до стерильного блеска их запущенную коммуналку, что Елизавета Александровна изумилась. Она была богата и сделала тете Шуре, ее детям столько подарков, что пришлось заказывать отдельный багаж.
Восвояси тетя Шура поехала с радостным сердцем от поклонения святым местам и в придачу с большим гостинцем. Не оставил преподобный Сергий без внимания ее упование и любовь. Только воспоминание о метро не давало ей покоя. «И выдумали же… – рассуждала она, глядя на мелькающие в окне провода. – Наши отцы церкви соборы строили. А эти под землей дворцов понарыли. И что их туда тянет? А как там тяжко, дышать нечем. Господи, прости великодушно. Нет, Москва – это много суеты. Всё суета… Какая суета сует», – вздыхала тетя Шура, вспоминая московскую прохожую беготню.
Под самую старость ее ждала нечаянная большая радость. В поселке ей, как вдове убитого на войне Героя Советского Союза, дали маленькую квартирку. Это было первое в жизни теплое жилье. В эту квартирку любят заходить ее дети, внуки, правнуки и много разного народа – поговорить о жизни с приветливой хозяйкой. Приезжающие монахи называют ее матушкой Александрой.
Все хорошо, только вот Акулина. Жизнь у нее сложилась тоже очень трудно. Муж остался на войне пропавшим без вести. Единственный сын сильно выпивал. Акулина горевала, роптала на судьбу, но во всех несчастьях непонятным образом виноватой оказывалась опять Шурка. Акулина бранилась и ругалась на нее беспрестанно. Приходила выговаривать бабе Шуре непонятные претензии. Всё пыталась что-то доказать. Металась, билась, плакала, никак не могла угомониться. В последнее время у нее стало плохо с нервами.
Баба Шура кротко несла этот свой крест и молилась о ее вразумлении. Когда Акулина была в спокойном духе, поила золовку чаем, уговаривала. А она упорствовала и сердилась. Вот и сегодня: «И чего это вдруг опять на нее нашло? А завтра ведь придет извиняться, объясняться. Господи, спаси и помилуй нас, грешных. И меня, неразумную. Это все по моей гордыне Акулина так-то вот...» Долго сидела задумавшись матушка Александра. За окном уже стемнело. Муха продолжала остервенело биться о стекло. «Ну что ты, попалась-то. Дай-ка я тебя выпущу». Жужжащая пленница была поднята салфеткой к форточке и, не помня себя от радости, сломя голову бросилась на свободу. «Муха – тоже творенье Божие. Пусть летит», – подумала баба Шура, занавешивая окно.
Огонь, вода и медные трубы батюшки-блогера
В книге рассказывается о жизни и служении протоиерея Геннадия Шкиля – пастыря, никогда не скрывавшего своей активной гражданской позиции и не боящегося говорить вслух самые нелицеприятные вещи.

Основу книги составили рассказы – о чудесах на передовой, о силе молитвы, о помощи Господа, Божией Матери и святых. Удивительные истории своих собеседников автор дополняет собственными размышлениями – о войне, о чуде, о вере. «Самое главное чудо на войне, – говорит он, – это чудо преображения души человека».

Безусловная ценность данного труда заключается в том, что на основе творений аввы Евагрия Понтийского в нем раскрывается суть и цель истинно христианской молитвы. В книге повествуется о том, как достичь чистой, бесстрастной, нерассеянной молитвы.

Чрезвычайно [не]важно: сборник рассказов
В книгу вошли веселые, добрые и поучительные истории из жизни священника, знакомые многим по телеграм-каналу отца Давида «Чрезвычайно [не]важно», а также его авторские рассказы.

Роман Ольги Рожнёвой будет интересен широкому кругу читателей: всем, кто интересуется историей нашей страны, задумывается о путях Промысла Божия и ищет интересную и полезную для души книгу для себя или в подарок.

Семейная жизнь ветхозаветных патриархов: Иосиф и его братья (проблемы большой семьи)
В книге рассматриваются проблемы ветхозаветной истории в их связи с современностью: семейные конфликты, свобода и неволя, пороки и добродетели, отношение светской власти к верующим, проблемы отцов и детей, взаимоотношения между людьми в их повседневной жизни.

Избранный Богом: Житие святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в пересказе для детей
Новая работа автора адресована детям среднего школьного возраста. Она поможет юным читателям лучше узнать отечественную и церковную историю, проникнуться любовью к святителю Тихону и укрепиться верой в его предстательство.

Эпоха Вселенских Соборов: Очерки из истории Церкви
Этот обширный и увлекательный исторический труд предназначен для педагогов, студентов богословских учебных заведений и для всех интересующихся историей Церкви.

«Первоцветы души» и другие рассказы
Книга будет интересна всем, кто любит непридуманные рассказы, истории из жизни священников и книги «Зеленой серии надежды».

Святитель Иоанн Шанхайский: уроки пастырства
Книга будет интересна священнослужителям, студентам и преподавателям духовных школ, а также всем, кто интересуется личностью святителя Иоанна Шанхайского и хочет услышать его наставления, касающиеся различных вопросов духовной жизни и темы воспитания в вере детей и молодежи.

Лёнька, или Один из пяти миллионов
Это первая часть романа-дилогии, написанная известным адвокатом, писателем и телеведущим Павлом Астаховым на основе документального материала, исторических фактов и воспоминаний.

Книга протоиерея Серафима Слободского – это не скучное пособие, но живое и увлекательное чтение для любого возраста, введение в мир православной веры.

Устав богослужения Православной Церкви: учебное пособие и самоучитель
Книга использована в духовных семинариях, регентских школах и на курсах подготовки псаломщиков, а также для самостоятельного изучения. Она станет настольной книгой для церковнослужителей и священнослужителей, желающих знать и понимать богослужебный устав.

Книга не только рассказывает удивительную историю, но и знакомит читателей с растениями Крыма: их названия находятся рядом с номерами страниц, а сами растения изображены в рамках, украшающих каждый разворот.

Не умру, но жив буду...: Жизнеописание схиархимандрита Илариона (Удодова)
Книга повествует о жизни схиархимандрита Илариона – одного из смиренных избранников Божиих, который испытал все тяготы и скорби, выпавшие на долю поколения новомучеников и исповедников Церкви Русской.
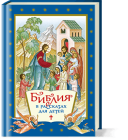
В книге наглядно и очень доступно изложены все важнейшие события Ветхого и Нового Завета, так чтобы дети, даже самые маленькие, могли понять все написанное, не нуждаясь в разъяснениях взрослых.

Книга предназначена для чтения взрослыми детям. Она также может быть использована как наглядное пособие в воскресных школах и на уроках по изучению основ православной культуры.

Книга будет интересна всем, кто интересуется «наукой побеждать», хочет лучше узнать гениального полководца и увидеть в нем не только воина и командира, но и любящего отца и глубоко верующего христианина.

Благодаря настоящему изданию русский читатель узнает святителя Нектария с новой стороны, откроет для себя его духовно-богословское наследие и приблизится к самопознанию.

Энергичная и находчивая бабушка принимает активное участие в воспитании двоих замечательных мальчуганов, внуков Коли и Вани. Она знает, что с этим маленьким народцем надо всегда держать ухо востро. Книга адресована детям младшего школьного возраста.

Жития наиболее почитаемых подвижников Церкви пересказал для детей известный вологодский писатель Роберт (в Крещении Роман) Балакшин.

Смиренный сердцем: Жизнь и духовный подвиг святителя Нектария Эгинского
Книга о жизни и трудах святого Нектария Эгинского, о дарах Божиих, которые он стяжал смирением, долготерпением, кротостью и любовью, будет полезен и интересен всем, чтобы и мы могли подражать святителю на пути нашего спасения.

«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний?..»: Размышления над Великим покаянным каноном
В книге разъясняются смыслы покаянных тропарей Великого канона, что позволит в полной мере осмыслить данное произведение и сделать из него ценные для духовной жизни выводы.

Российская духовная миссия в Корее
Книга освещает основные этапы существования Корейской миссии, ее внешнюю историю и внутренний быт.

Знакомство в поезде и другие рассказы
Эта книга написана легко и с юмором. Она словно задушевный разговор с близким по духу человеком. Невыдуманные истории, записанные автором, дарят тепло, надежду, радость. А удивительные случаи обращения людей к Богу, описанные в этой книге, возможно, помогут прийти к Богу кому-то еще.
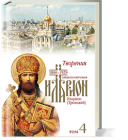
Священномученик Иларион (Троицкий). Творения
Четырехтомник содержит исторические очерки о Церкви, богословские труды, публицистические статьи, рецензии, письма и другие работы.

А.Ф. Лосев и его традиции в наше время
Книга посвящена многоаспектному изучению жизни и творчества выдающегося мыслителя, православного философа, филолога-классика и тайного монаха — профессора А.Ф. Лосева.

В сборник вошли рассказы и сказки двух писательниц – Наталии Ячеистовой и Елены Королёвой. Проиллюстрировала издание художница Полина Зорина. В результате получилась красивая, добрая и увлекательная книга для детей.

Заветы и советы русских старцев XX–XXI веков
Советы и поучения старцев, которые прошли свой пастырский путь в советское и постсоветское время. Советы вошедшие в эту книгу, охватывают едва ли не все области духовной жизни
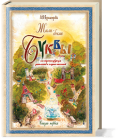
Комплект учебных пособий для детей 4–8 лет. Создатель, монахиня Марина (Бурмистрова), предлагает совершенно новую и увлекательную форму знакомства дошкольников и младших школьников с русским языком. Издано к 33-летию Славянского фонда.

Преподобный Сергий Радонежский
В книге повествуется о жизни, подвигах и трудах преподобного Сергия, о трудностях, которые он переживал, и о чудесах, которые Господь сотворил по его молитвам, а еще об истории основания Троице-Сергиевой лавры – самого крупного и известного русского монастыря.

Житие прп. Серафима Саровского
В издательстве Сретенского монастыря в серии «Жития святых для детей» вышла книга известного вологодского писателя Роберта (в крещении Романа) Балакшина (1944–2022) «Преподобный Серафим Саровский». В ней интересно и доступно для детей пересказано житие этого великого русского святого.

Короткие, мудрые, веселые и грустные рассказы, воспоминания и заметки-размышлизмы, вошедшие в сборник "Приходское богословие" и другие рассказы», читаются удивительно легко. Они будут интересны не только воцерковленному человеку, но и тем, кто еще только собирается войти в храм Божий.

Радость земли русской: две Евфросинии
Издательство Сретенского монастыря выпустило книгу «Радость земли русской: две Евфросинии». В ней повествуется о двух удивительных святых, носивших одно имя – Евфросиния, что в переводе с греческого означает «радость». Они действительно были воплощением полноты жизни и настоящей, неподдельной радости о Господе.

В издательстве Сретенского монастыря вышел роман известной сербской писательницы Лиляны Хабьянович-Джурович «Соль земли». Это история о великом сербском святом Василии Острожском. В самые трудные для сербского народа времена, подражая своему любимому святому, святитель Василий Острожский стал для своих измученных соотечественников новым святым Саввой, солью земли, светом миру.

Московский Сретенский монастырь: Возрожденный трудом и молитвой
В книге можно увидеть создание обители, ее возрождение, первые богослужения и первых насельников возрожденного монастыря, строительство нового собора, создание и жизнь Сретенской духовной академии, деятельность издательства Сретенского монастыря и просветительского центра, сегодняшнюю жизнь братии и прихожан обители.

Сказание о Евфросинии Полоцкой
Это увлекательная история для детей, основанная на реальных исторических событиях. Книга расскажет о жизни и взрослении княжны Предславы, будущей преподобной Евфросинии, о том, как, сохранив чистоту души и верность своим мечтам, она смогла изменить мир вокруг себя. Книга познакомит юных читателей с историческими героями того времени и покажет древний город Полоцк в его завораживающей красоте.
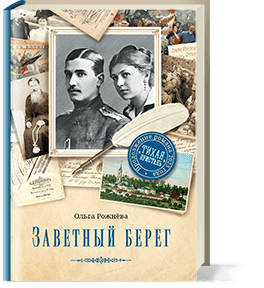
Главные герои романа становятся свидетелями и участниками грозных событий начала XX века. Александр Белозерский и его любимая девушка переживают захватывающие приключения и смертельные опасности. Заветы духовного отца помогают им сохранить любовь и верность, разглядеть судьбоносный Промысл Божий в таинственном переплетении обстоятельств.
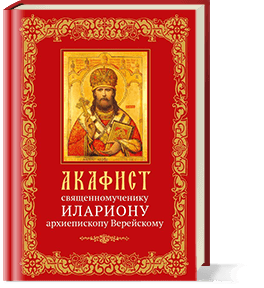
Акафист священномученику Илариону, архиепископу Верейскому
В этом издании вы найдете текст службы (напечатан крупным шрифтом), который был утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля 2019 года.

В издательстве Сретенского монастыря вышло 5-е, дополненное издание книги «Преподобный Серафим Саровский», в которой содержатся житие, описание чудес и наставления этого дивного угодника Божия. Книга будет интересна всем, кто почитает этого великого русского святого, хочет больше узнать о нем и услышать его живой голос.

В книге описаны жития семи святых сербских подвижниц, в жизни и трудах которых отразилась искренняя и непоколебимая вера многих поколений христианок, которые на протяжении веков хранили благочестие, любовь, супружескую верность, молились и заботились о ближних.

Путь по Богу исправляя: Письма о духовной жизни
В книгу издательства Сретенского монастыря «Путь по Богу исправляя» вошли духовные письма святителя Макария (Невского) к его духовной дочери, в которых он говорит о вере, отчаянии, молитве и Промысле Божием. Каждое его письмо наполнено сердечным теплом, утешением и любовью, укрепляющими читателя на пути жизненных сложностей и скорбей.

Протоиерей Олег Стеняев в своей новой книге просто и доступно анализирует евангельский текст, проясняя сложные моменты и заостряя внимание на непреходящих проблемах, актуальных для современного человека. Он объясняет обычаи и традиции того времени, взгляды и мировоззрение современников Иисуса Христа, приводит самые важные и интересные комментарии святых отцов на Евангелие от Иоанна и делится историями из своей богатой пастырской и миссионерской практики.

Идти путем апостольским. Жития и труды святых миссионеров XX века
Рассказ о трудах и подвигах миссионеров XX века будет интересен широкому кругу читателей. Архимандрит Иов (Гумеров) выражает надежду, что эта книга подробнее раскроет тот период истории Русской Церкви и послужит нашей духовной пользе и спасению.

Организация и методика церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия
Книга Андрея Ивановича Солодкова «Организация и методика церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия» будет полезна священникам и церковнослужителям, а также миссионерам и всем православным христианам, неравнодушным к людям, отпавшим от Матери-Церкви.

Календарь на 2025 год «Воин Христов»
В Сретенский календарь на 2025 год «Воин Христов» вошли примеры подвижнической жизни и изречения святых, наставления святых отцов и современных священнослужителей, ответы на многие духовные вопросы, а также указания положенных на каждый день чтений из Священного Писания.
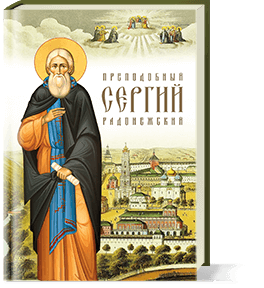
Составитель этой книги – выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, архиепископ Никон (Рождественский; 1851–1919). Долгие годы, будучи насельником Троице-Сергиевой лавры, он трудился на ниве книжного просвещения, и в 1885 году, еще в сане иеромонаха, опубликовал эту книгу, которую издательство Сретенского монастыря издает уже в пятый раз.

Молитвослов на церковнославянском языке
Издательство Сретенского монастыря выпустило 2-е издание молитвослова на церковнославянском языке. В нем представлены все необходимые для православного христианина молитвы.

«Прощай, грусть!» и другие рассказы
Книга священника Игоря Сильченкова «"Прощай, грусть!" и другие рассказы» будет интересна всем, кто любит непридуманные рассказы, истории из жизни священников и книги «Зеленой серии надежды».

Слово из сердца: о монашестве и священстве
Митрополит Лимасольский Афанасий
Книга митрополита Афанасия Лимасольского «Слово из сердца: о монашестве и священстве» содержит доклады владыки на конференциях, посвященных монашеству и роли священнического служения в современном мире. Сборник, в частности, включает доклады-воспоминания, раскрывающие жизнь и учение старцев, которых владыка Афанасий знал лично. Это преподобные Паисий Святогорец, Софроний Эссекский, Ефрем Катунакский, Иосиф Ватопедский.

Всенощное бдение. Литургия : Разъяснение церковного богослужения
В это издание вошли последования вечерни, утрени и Божественной литургии с объяснением непонятных слов и различных элементов богослужения. В книге описывается то, что происходит в алтаре и не видно мирянину, а также приводятся тайные молитвы священника, читаемые во время всенощного бдения и Божественной литургии.
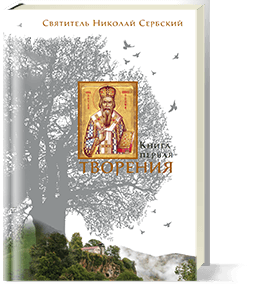
Творения. Святитель Николай Сербский
«Творения» святителя Николая Сербского – это трехтомное издание, которое охватывает множество тем – вера, покаяние, молитва, скорби, грехи, любовь, прощение. Оно будет интересно всем, кто хочет лучше понять Евангелие и получить духовное наставление от святого, хорошо знавшего современную жизнь.
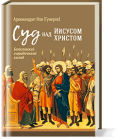
Суд над Иисусом Христом: богословский и юридический взгляд
В книге на основании евангельских текстов, трудов отцов Церкви и церковных историков рассказывается о судопроизводстве времен Иисуса Христа, подробно и доступно описывается судебный процесс над Спасителем мира, анализируются судебные ошибки и произвол, допущенные в ходе разбирательства. Автор – насельник Сретенского монастыря, кандидат богословия – архимандрит Иов (Гумеров).

Новая книга Татьяны Копяткевич «Как Сима встречала Пасху» будет интересна всем, кто хочет доступно и интересно рассказать детям о самом главном празднике нашей Церкви. Эта книга с добрыми и красочными иллюстрациями Полины Зориной станет замечательным подарком для любого ребенка.

В издательстве Сретенского монастыря вышло переиздание книги протоиерея Александра Шаргунова «Время Великого поста». Ее автор – известный московский священник, преподаватель Московской духовной академии и семинарии, доцент кафедры библеистики, член Союза писателей России. В это издание вошли проповеди отца Александра, произнесенные им в разные годы его более чем сорокалетнего пастырского служения и посвященные времени Великого поста.

Византийская эпоха в истории Европы: VII–VIII века
Книга «Византийская эпоха в истории Европы: VII–VIII века» написана очень доступно и увлекательно. Ее автор, протоиерей Владислав Цыпин, опирается на обширный корпус исторических текстов и исследования специалистов. Это издание будет интересно широкому кругу читателей, особенно интересующимся средневековой историей и историей Церкви.

Богословские интуиции в античной философии (досократики, Платон, Аристотель)
Это учебное пособие предназначено для учащихся высших духовных школ и студентов светских вузов, изучающих античную философию и призвано содействовать формированию прочного фундамента для дальнейшего изучения сложного комплекса философско-богословских дисциплин. В издании содержатся теологические интерпретации философских идей Античности, а также приводятся выдержки из основополагающих трудов философов рассматриваемого периода. В Приложении содержится анализ диалога Платона «Государство» на предмет структуры произведения, его основных тем и их презентации в произведении.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Творения святителя Игнатия (Брянчанинова) – духовная сокровищница Русской Церкви, любимое чтение благочестивых христиан. Все, о чем пишет святитель, основано на Священном Писании и творениях святых отцов, постигнуто на собственном опыте и подтверждено его святой жизнью.

Эта книга будет интересна всем, кто ищет ответов на самые разные духовные и житейские вопросы, кто нуждается в совете, поддержке и утешении, и тем, кто хочет узнать больше об известном подвижнике, проповеднике и духовнике – схиархимандрите Зосиме (Сокуре).

Первая исповедь и другие рассказы про мальчика Колю
В издательстве Сретенского монастыря вышла книга «Первая исповедь и другие рассказы про мальчика Колю». Ее автор – Галина Владимировна Лебедева (1938–2014), замечательный детский писатель, автор большого количества рассказов, полных светлого взгляда на мир и доброй фантазии. Эта увлекательная и поучительная книга с добрыми красочными иллюстрациями понравится мальчикам и девочкам от шести лет. В ней приводятся простые примеры из повседневной жизни, которые при внимательном рассмотрении раскрывают глубокие духовные смыслы. Важные жизненные уроки в книге преподносятся в простой и увлекательной форме, а такие сложные понятия, как грех, покаяние и молитва, раскрываются очень доступно и просто.

Молитвослов, напечатанный увеличенным шрифтом, помимо привычных утренних и вечерних молитв, раздельных канонов и правила ко Святому Причащению, содержит множество разных молитв — протяженных и кратких. Чтение их в различных обстоятельствах жизни поможет обрести мир в душе, сохранить ясность ума и воспитать благодатный навык непрестанной молитвы.

Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире
В своей новой книге протоиерей Павел Гумеров рассказывает о том, как формируется греховная зависимость, как пресечь ее в самом начале, как распознать в себе ту или иную страсть и как приступить к борьбе с ней.
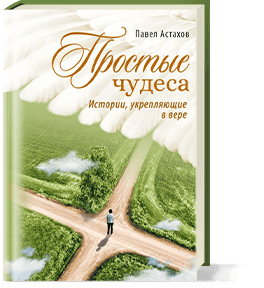
Простые чудеса: истории, укрепляющие в вере
В новой книге Павла Астахова собраны истории о маленьких и больших чудесах, совершившихся в жизни верующих людей. О судьбах тех, кто известен как в духовной, так и в светской среде, и об удивительном Божием попечении о нас.

Эта книга в доступной и увлекательной форме расскажет юным читателям о том, что такое Рождество Христово, как подготовиться к нему и встретить вместе со Христом, что означают русские рождественские традиции и почему Рождество — День Рождения Христа — это не случившееся много лет назад событие, а вечно повторяющееся чудо.

Вариации на тему любви и милости
В своей книге известный французский богослов и патролог Жан-Клод Ларше предлагает читателям рассмотреть любовь к Богу, ближнему и самому себе как звенья одной цепи. Автор подробно раскрывает богословское значение любви, подкрепляя повествование библейским и святоотеческим материалом, что делает книгу привлекательной как для богословов, патрологов, так и для всех христиан, ищущих обрести самую главную христианскую добродетель.

Чудеса каждый день: Рассказы о Промысле Божием
Отец Михаил рассказывает истории об удивительных проявлениях любви Божией и о больших и малых чудесах, свидетелем которых он был в течении долгого времени своего служения на Аляске.

В книгу вошли лучшие произведения писателя – роман «Лето Господне» и рассказы, написанные о детях и для детей. Замечательные иллюстрации являются украшением издания и делают его прекрасным подарком к любому празднику.

Какую жизнь выбрать? Истории румынского старца для детей и взрослых
В этой книге в простой и доступной для детей форме батюшка объясняет главные истины нашей веры, излагает основы борьбы со страстями и подсказывает юным читателям верные жизненные ориентиры.

Наши отношения с ближними. Духовные беседы
Cхиархимандрит Эмилиан (Вафидис)
Беседы духоносного старца, посвященные важным для каждого верующего вопросам – истинной радости, отношениям с ближними и борьбе со страстями.

Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин)
В новый сборник известного поэта вошли стихотворения разных лет посвященные поэтическому осмыслению церковных праздников разных времен года, а также природе, прославляющей Бога своей красотой.
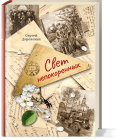
Рассказы в сборнике расположены в хронологическом порядке – в них повествуется о стремительном и горьком отступлении 1941-го, о партизанской войне и оккупации, о блокаде Ленинграда и форсировании Днепра, о последних днях войны и жизни после Победы.

Дивен Бог во святых Cвоих : Истории румынского старца для детей и взрослых
В книгу вошли рассказы о чудесах всеми любимых святых – Спиридона Тримифунтского, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и других, а также истории о святых малоизвестных. Все эти истории изложены старцем Клеопой доступно и интересно для детей. Главная мысль книги – святым может стать каждый, даже если раньше в его жизни были ошибки и падения.

Что сказать Богу? Молитвенные обращения святого праведного Иоанна Кронштадтского
В данную книгу вошли глубокие и искренние молитвы праведного Иоанна Кронштадтского для многих ситуаций и нужд: славословные, покаянные и просительные; молитвы к Богу, Пресвятой Богородице и Церкви, молитвы о себе и ближних (о благополучии, о прощении грехов, о даровании благ, об исцелении и спасении от опасности, о впавших в различные страсти); молитвы священника о себе и ближних.

Книга содержит интересные исторические сведения и повествует о чудесных событиях, которые сопровождали воссоздание усадьбы, где расположен скит Сретенского монастыря.

В том, что иногда мы скучаем на богослужении, отвлекаемся, не молимся и думаем о своем, бывает стыдно признаться даже себе. В книге даются действенные советы, как разрешить этот серьезный духовный вопрос.

«Старец Порфирий мне сказал...»: Свидетельства
В книгу вошли воспоминания тех, кто был лично знаком с преподобным и даже окормлялся у него по много лет – от ученых и священнослужителей до простых людей.

Бабушкины пирожки и другие рассказы про девочку Таню
Эта книга поможет взрослым и детям интересно провести время вместе. Помимо интересных историй читателей ждет инструкция, как составить генеалогическое древо, а также раздел с рецептами блюд, которые упоминаются в рассказах.

«Обратная сторона новых медиа»
Опираясь на исследования современных мыслителей, социологов и ученых, автор делает глубокий и подробный анализ разрушающих последствий, которые новые медиа порождают в разных сферах человеческой жизни.

Забота о душе. Покаяние и исповедь
Святитель Нектарий пишет о самых важных для человека вещах – об истинной и ложной свободе, о том, как нам последовать за Христом, о грехе, покаянии и спасении, о том, как надлежит приступать к Причащению и каким бывает тот, кто приобщается достойно.

Как аскетика помогает нам в повседневной жизни
Книга рассказывает о необходимости подвига в повседневной христианской жизни, без которого невозможно избавиться от греха, освободиться от страстей и приблизиться ко Христу. Книга основана на богатом духовном наследии святых отцов-подвижников, а также на личном опыте авторов – приходских священников.

Татьяна Сергеевна Смирнова рассказывает о знакомстве с отцом Иоанном, о своем духовном пути, о послушании келейницы и письмоводителя. Она приводит наиболее яркие, запомнившиеся ей эпизоды из жизни батюшки и рассказывает о его даре духовника.

Мария Георгиевна рассказывает о семье и детстве своего отца, о становлении его личности, о вере и любви к Родине, всегда живших в его сердце. Пишет о полководческом даре Георгия Константиновича и помощи, которую являл ему Господь в самые трудные времена.

«Вечное лето» и другие рассказы
Часть рассказов этой книги посвящены действию Промысла Божия в жизни автора, ее родных и знакомых, чудесным событиям, неожиданным поворотам в судьбах разных людей. Ряд рассказов повествуют о периоде, когда автор находилась в Китае.

Внимай себе. Письма о духовной жизни
5-е издание книги «Внимай себе: письма о духовной жизни», в которую вошли письма игумена Никона к разным лицам, систематизированные по темам – о Боге и вере, о христианской жизни и отношениях с ближними, о скорбях и борьбе с грехами, о молитве и покаянии, о смысле земной жизни и др. Также в книге содержатся его проповеди и мысли и комментарии к книге «Старец Силуан».
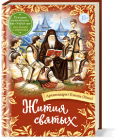
Жития святых: истории румынского старца для детей и взрослых
В этой книге отец Клеопа благоговейно и с любовью пересказывает избранные жития святых – Алексия, человека Божия, великомученицы Екатерины, святого Марка с горы Франческой, мученика Тарсисия – десятилетнего мальчика, который погиб, защищая Святые Христовы Таины, и других. Рассказы о святых батюшка сопровождает небольшими наставлениями, личными воспоминаниями и простыми и доступными объяснениями.

О действии благодати Божией в современном мире
В автобиографической повести монахиня Елена описывает наиболее тяжелый период в своей жизни – военные и послевоенные годы. Одновременно это было и время наиболее сильных проявлений Божественной благодати.

«Подарки от Бога» и другие рассказы
В книге собраны рассказы на разные темы: более всего об удивительных судьбах и чудесах, которые случились в жизни самых разных людей. Православие здесь не книжное, а такое, как в жизни: иногда с падениями и ошибками, но настоящее, неподдельное.

Фрески: Короткие рассказы и стихотворения в прозе
В этой книге собраны короткие рассказы и стихотворения в прозе, «картинки из жизни», написанные как фрески, «когда пишут прямо по свежей штукатурке; по свежей, впитывающей образ основе... по свежей памяти». Среди рассказов – лиричные зарисовки и притчи, философские размышления и истории из детства, новеллы о братьях наших меньших и бытовые драмы, стоп-кадры и обрывки разговоров...

Основы православной антропологии
Автор стремился сделать учебник понятным и полезным, не сужая круг читателей до воцерковленных людей. Книга обращена к богословам, антропологам, психологам, педагогам, студентам-теологам и тем, кто хотел бы познакомиться с православным вероучением и найти в Божественном Откровении пользу для своей души.

Герои книги – кадеты и юнкеры Российской империи, защитники веры, царя и Отечества – живут в непростое время: вокруг свирепствуют еще неизвестные науке эпидемии, нарастает недовольство властями, общество раскалывается на непримиримые группировки, вспыхивает кровопролитная война...

Книга разделена на три части: «Принцесса Элла», «Великая княгиня», «Великая матушка». Они посвящены разным периодам жизни Елисаветы Феодоровны, в них рассказывается о ее семье и детстве, взрослении и юности, любви к супругу и новой родине, принятии православия, милосердии и благородстве, великом смирении и самоотверженном служении Богу и ближним.

Указание пути ко спасению: опыт аскетики
В книге подробно рассмотрены все аспекты духовной жизни человека: молитва, пост, борьба со страстями, стяжание добродетелей, воспитание благочестия, участие в церковных таинствах. Автор в доступной форме рассказывает о трудностях и искушениях на пути ко спасению и дает множество ценных практических советов, как возрастать духовно.

Автор буквально по дням реконструирует некоторые периоды и делится своим видением развития событий, зачастую не совпадающим с точкой зрения историков.
Благодаря книге «Храм Василия Блаженного» читатель узнает, как развивалась и воплощалась идея строительства знаменитого собора, познакомится с жизнью Ивана Грозного и увидит, как росла вместе с храмом страна, превращаясь из маленькой Московии в большую Россию.

Псалтирь: книга жизни. Комментарий к тексту Синодальной Библии
Авторы использовали труды не только авторитетных экзегетов древности, но и тех современных ученых, которые исследуют разночтения в древнееврейских и греческих рукописях, проводят параллели между библейскими текстами и древней ближневосточной литературой.

В книгу вошли около сотни стихотворений, написанных автором в период пребывания автора в 2022 году в Сретенском монастыре.

Во множестве ярких рассказов и очерков Екимов рисует мало кому знакомую обстановку нынешней сельской местности с ее новым бытом, манящими возможностями и крутыми угрозами. Этот живой поток екимовских картин, раздвигая наши представления о непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстановить, хотя бы мысленно, единство национального тела.

Служба Великого канона в четверг 5-й седмицы Святой Четыредесятницы («Стояние Марии Египетской»)
В Приложении публикуются Троичны, седальны и светильны восьми гласов, две редакции жития преподобной Марии, синаксарь в русском переводе, стихиры Великого канона и богослужебные указания о порядке совершения службы Великого канона в четверг 5-й седмицы Великого поста.

В издании приводится полное последование утрени Великого канона на церковнославянском языке, напечатанное гражданским шрифтом с ударениями. Все богослужебные тексты и житие преподобной Марии напечатаны по порядку, что дает возможность следить за ходом богослужения.

Читатель сможет узнать, как складывалась жизнь трех московских подруг с одинаковым именем Вера. Судьбы их семей оказались связаны с крутыми историческими поворотами в стране в ХХ веке, а сами героини прошли путь от детства в столице нашей Родины через Северный Кавказ, Якутию, Диксон до невероятной встречи спустя десятилетия на южных окраинах далекой Австралии.

Православные приходы России в первые годы установления советской власти
Книга Олега Викторовича Стародубцева посвящена одной из самых трагичных страниц истории Русской Церкви. Антицерковная политика советских властей должна была привести к полному уничтожению Церкви. Однако в условиях постоянных гонений и террора происходит сплочение приходской жизни, усиление раннехристианского соработничества и взаимопомощи.

Вечный покой: православное поминовение усопших
В книге подробно описаны православный обряд погребения и приведены рекомендации для поминальной трапезы, дней памяти близких, советы о том, как молиться о них в храме, дома и на кладбище.

«Рука Дамаскина» и другие рассказы
В очередной книге «Зеленой серии надежды» читатели найдут рассказы о Промысле Божьем и об удивительных, необычных, чудесных событиях в своей жизни и жизни своей паствы.
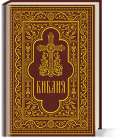
Библия в синодальном переводе, крупный шрифт
В данное издание включены канонические и неканонические книги. Крупный шрифт и тонкая бумага делают эту книгу прекрасным Рождественским подарком для человека любого возраста

Старец Гавриил (Сиокурос): чудеса и поучения
Старец Гавриил – одна из наиболее значимых фигур кипрского монашества, он был простым, снисходительным, терпеливым, смиренным, для своих учеников – учителем и отцом. Духовное чадо старца Гавриила, известный гимнограф Александрийской Церкви доктор Харалампий Бусьяс, составил о нем книгу.

Книга повествует об удивительных событиях и Промысле Божием в жизни автора, его родных и друзей и показывает Павла Астахова с новой стороны – как глубоко верующего православного христианина. Это книга-разговор, книга-откровение, написанная на основе пережитого опыта.

Автор дает культурно-исторический комментарий к толкованиям святых отцов, приводя примеры из своей богатой священнической и миссионерской практики.
Переход: последняя болезнь, смерть и после
Автор дает много практических советов и рекомендаций о том, как ухаживать за тяжелобольным человеком, как помочь ему принять свой диагноз, преодолеть страх смерти и подготовиться к переходу в вечность. Отдельная глава посвящена болезни и смерти детей. Доктор Калиновский также пишет о том, как помочь пережить горе тем, кто потерял своих родных и близких.

Каждый день с Богом. Утренние размышления
«Немало наставлений я адресую родителям и вообще всем тем, кто желает жить духовной жизнью. Мои заметки по своей природе не академические, не научные, они простые и вдохновляющие, их хорошо читать утром за чашечкой кофе».

Захватывающие истории, которые произошли с отцом Александром, его знакомыми и прихожанами. Батюшка уже давно выработал особый, доверительный стиль общения с читателем: он не морализаторствует, а делится «мыслями вслух» – в надежде на то, что пережитый им или героями его рассказов духовный опыт может оказаться кому-то полезным.
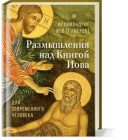
Размышления над Книгой Иова для современного человека: О Промысле Божием и спасительных страданиях
Книга открывает нам душу страдальца, помогает постичь смысл мучений истинного праведника, которого возлюбил Господь, учит современного христианина умению вверять себя в руки Бога-Промыслителя Образ святого Иова, смиренно несшего свой скорбный крест, говорит о тайне будущих крестных страданий Спасителя, готовит нас к встрече со Страдавшим и Воскресшим Христом.
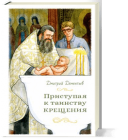
Как выбрать крестных родителей? Почему правильнее крестить младенца, а не ждать личного выбора взрослого человека? В каких случаях таинство может совершить мирянин? Можно ли креститься повторно, если не знаешь, был ли крещен в детстве?

По мере сил: Маленький городской патерик
В книгу вошли истории о современных монахах, священниках и мирянах, людях, ищущих и находящих ответы на самые важные вопросы: как быть христианином в современных реалиях городской жизни, как сохранить веру в Бога живой, как услышать заповеди Божии и как их исполнить.

Жизнь моя – Сретенский монастырь
В 1990-е годы, когда в стране началось восстановление разрушенных храмов и церковной жизни, начал возрождаться и Сретенский монастырь – трудами и молитвами многих людей. Именно этому периоду и этим людям посвящена новая книга нашего издательства.

Молитвы о детях и семейном благополучии
В книге собраны молитвословия о даровании детей, молитвы, которые читаются в период, когда женщина уже носит дитя под сердцем, а также молитвы, читаемые в самых разных жизненных обстоятельствах: от трудностей при грудном вскармливании до духовных и телесных немощей детей, проблем, связанных с учебой, молитвы о защите детей от различных опасностей.

Нектарий Пентапольский – святой наших дней
Эта книга на сегодняшний день является наиболее полной биографией святителя Нектария, Эгинского чудотворца. Основанная на всестороннем изучении источников, она освещает множество неизвестных и малоизвестных фактов биографии святителя.

Сретенский календарь. Чтения Священного Писания на каждый день
В календаре собраны ежедневные чтения Евангелия и Апостола, а также великопостные чтения Ветхого Завета, положенные по Уставу Православной Церкви.

Главное таинство Церкви. Божественная Литургия с пояснениями
Книга включает в себя последование часов и Божественной литургии. Она поможет глубже понять богослужение. Текст сопровождается краткими пояснениями и переводом сложных для понимания слов и выражений.

Псалтирь. Гражданский крупный шрифт
Святые отцы много говорили о великой пользе чтения Псалтири. В любом духовном состоянии – в скорби или радости, в покаянии или благодарении – не найти лучшего способа для молитвы. Книга царя Давида универсальна, глубока и удивительна. Нередко, читая псалмы, человек ощущает, что стихи написаны будто о нем.
Издательство Сретенского монастыря переиздало книгу «Псалтирь. Гражданский крупный шрифт». Формат удобен для чтения – Псалтирь напечатана крупным гражданским шрифтом, ее можно читать даже при слабом освещении.

Издательство Сретенского монастыря выпустило 3-е переработанное издание «"Сила молитвы" и другие рассказы». В сборнике читатель найдет истории о больших и маленьких чудесах, силе любви и молитвы, встречах с удивительными людьми.

Домашнее последование воскресной вечерни, утрени, часов и обедницы
В книге читатель найдет последование воскресного всенощного бдения 6-го гласа, часы и изобразительны (обедницу), адаптированные для домашней молитвы.

Матушка писала книгу долгие годы. Каждый раз, встречаясь с отцом Иоанном, она задавала ему вопросы о духовной жизни. Его ответы и советы игумения Таисия старательно запоминала, а вечером того же дня записывала по памяти, стараясь не упустить ни одного слова.
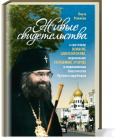
Исповедник и юродивый, он начинал свой подвиг в тяжелое время безбожия и гонений на веру. Во дворе своего дома в Тбилиси он построил церковь, куда приносил выброшенные неверующими соотечественниками иконы. Он был наделен Богом даром прозорливости, врачевания духовных и телесных недугов. Отец Гавриил часто юродствовал, скрывая многочисленные дары Святого Духа, и любовью приводил людей к Богу.

Туринская Плащаница: свидетельства евангелистов и открытия ученых
Издание снабжено многочисленными фотографиями. Реконструкции положения Тела Спасителя и расположения ран отвечают на многие неразрешенные ранее вопросы.

В предлагаемом издании содержится более 140 интересных фотографий и схем, объясняющих устройство Храма и Старого города, упоминается 110 исторических личностей. А различные видео, доступные при переходе по QR-кодам, создают ощущение личного присутствия в Храме.
Книга сообщает интересные и важные сведения не только о Храме Гроба Господня и святынях Иерусалима, но и о последних днях земной жизни, распятии, смерти, погребении и воскресении Спасителя.

Из Библии, из запечатленного в ней взгляда на Святую Землю видно, что сначала она была «землей чужой», землей многобожников и язычников. Затем Бог обещал и дал ее в наследие Аврааму и его потомству Израилю, ветхому и новому. Однако наследование этой «обетованной земли» с исторической точки зрения носило переменчивый характер.

Наглядно и ярко книга рассказывает о том, как достойно подготовиться к светлому празднику Пасхи и как радостно его встретить.

Европа в эпоху гонений на христиан
Книга посвящена истории христианства в Европе I–III веков – периоду столкновения зарождающейся Церкви с традиционными римскими языческими обрядами и императорским культом.

Молитвенные зовы утра и вечера
Протоиерей Владислав Свешников
По мнению автора, серьезный недостаток в молитвенной жизни – многолетнее невнимательное «вычитывание» утреннего и вечернего правила, совершаемое без участия ума и сердца.

Главная мысль всех историй сборника такова: каждый человек – ближний, а Евангелие – это не что-то, что было давно, это – сама жизнь.

Автор – сербская писательница Лиляна Хабьянович-Джурович. Книга охватывает период более чем в 850 лет – от рождения святителя Саввы до наших дней.

Источник добродетелей. О молитве келейной и церковной
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Молитва, как беседа с Богом, сама собою — высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек, — и Милосердый Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтоб он не потерял ее, не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо, гораздо меньшее.

Дневник заседаний Святейшего Синода с 26 апреля 1917 года по 12 июня того же года
Книга протопресвитера Николая Любимова описывает события церковной жизни, предшествовавшие созыву Поместного Церковного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов.

«Смеяться, право, не грешно… Юмор православных священников и мирян»
В книге собраны нравоучительные, забавные и добрые рассказы и истории, байки из приходской жизни, смешные случаи из жизни священников и мирян, анекдоты, а также забавные высказывания детей в духе книги К.И. Чуковского «От двух до пяти» на православный манер.

В книге собраны воспоминания священномученика Михаила Чельцова об эпохе «красного террора» и кампании по изъятию церковных ценностей, о пяти тюремных заключения и людях, с которыми Господь сводил его там, о жизни Церкви того времени, а также письма к жене и детям, написанные из заключения.

Издание посвящено фрескам собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери Московского Сретенского монастыря.

Научи меня, Господи, молиться! Толковый молитвослов для школьников
Книга «Научи меня, Господи, молиться!» в доступной форме расскажет детям, как, когда и для чего нужно молиться, а также объяснит непонятные слова и выражения, содержащиеся в молитвах.

Молитвослов на церковнославянском языке
Церковнославянский язык. Классический дизайн. Жирный шрифт. Универсальное наполнение.

«Я открываю храм» на венгерском языке
Книга станет прекрасным обучающим пособием для всех, кто говорит по-венгерски и хочет больше узнать о православном храме и совершающихся в нем богослужениях и таинствах.

Последний среди первых. Преподобноисповедник Гавриил
Исповедник и юродивый, он начинал свой подвиг в тяжелое время безбожия и гонений на веру. Во дворе своего дома в Тбилиси он построил церковь, куда приносил выброшенные неверующими соотечественниками иконы. Он был наделен Богом даром прозорливости, врачевания духовных и телесных недугов. Отец Гавриил часто юродствовал, скрывая многочисленные дары Святого Духа, и любовью приводил людей к Богу.

Роман основан на реальных событиях. Повествование охватывает период с марта 1917 года, когда император отрекся от престола и вместе с супругой и детьми был взят под арест, по 17 июля 1918 года, когда вся Царская семья была расстреляна большевиками.

«Цыганская клятва» и другие рассказы
Пронзительная правда жизни, неподдельная любовь автора к каждому своему герою, кем бы он ни был, — вот в чем притягательная сила слога протоиерея Владимира (Гофмана).

Финляндская Православная Церковь в 1957-1988 годах
Епископ Петергофский Силуан (Никитин)
В Финляндской православной церкви в период с 1957 по 1988 год произошло немало изменений и внутри нее самой, и в отношениях с другими Православными Поместными Церквами и также с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии. Эти процессы описаны епископом Силуаном в издании, здесь же отражены все важнейшие события в истории ФПЦ, повлиявшие на ее развитие. Описывается ее устройство, монастыри, святыни, братства и союзы.

В Издательстве Сретенского монастыря вышел новый молитвослов карманного формата в твердом переплете с тесьмой-закладкой, гражданский шрифт.

Вышла богослужебная книга малого формата “Апостол” на русском языке. Твердый переплет и стандартный шрифт делают книгу удобной для того, чтобы брать ее с собой.

«Этот бесценный человек...». Воспоминания о митрополите Антонии
Книга Джиллиан Кроу — духовной дочери митрополита Антония Сурожского — первая подробная биография владыки. Здесь можно найти свидетельства близких знакомых епископа, а также его собственные воспоминания и проповеди.

В новой книге французский богослов и патролог Жан-Клод Ларше рассматривает некоторые аспекты психологических теорий и практик Фрейда и Юнга с точки зрения православия и объясняет, почему таинство Исповеди и православная практика откровения помыслов эффективны в лечении духовных и психических заболеваний.

Архимандрит Симеон (Крайопулос)
В Издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга "Уроки мудрости для родителей" известного греческого духовника и богослова архимандрита Симеона (Крайопулоса) о повседневной жизни детей и их родителей.

Как я бросил курить. Опыт борьбы с табакокурением
В Издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга «Как я бросил курить. Опыт борьбы с табакокурением», в которой автор делится своим опытом борьбы с зависимостью.

Как говорить с Богом? Практика молитвы
Насколько важна молитва для человека? Как правильно настроить себя на молитвенный лад? Что делать, когда молиться хочется, а человек не знает ни одной молитвы? Как говорить, просить и благодарить так, чтобы Господь услышал? Зачем мы обращаемся к святым и почему Бог не всегда отвечает на наши просьбы?

«Я ОТКРЫВАЮ ХРАМ» НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В издательстве Сретенского монастыря вышла книга «Я открываю храм» на французском языке. Это иллюстрированное подарочное издание, где в доступной для детей и взрослых форме рассказывается о том, что такое православный храм, монастырь, службы и Таинства, в чем их смысл и внешнее воплощение.

В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга протоиерея Александра Авдюгина "Милосердия двери": в рамках издания "Зеленой серии надежды" автор делится поучительными историями из жизни приходского священника.

В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга протоиерея Александра Авдюгина "Монастырские яблоки": продолжение приходских и автобиографичных историй из жизни автора.
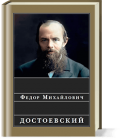
Главные мысли: Сборник. Ф.М. Достоевский
В издательстве Сретенского монастыря вышла книга цитат Ф.М. Достоевского "Главные мысли".

Часослов учебный. Гражданский шрифт
Новое издание Часослова, напечатанное гражданским шрифтом. Книга будет полезна в процессе обучения церковному чтению.

Почему наши дети такие? Святоотеческие размышления
Новый сборник цитат святых отцов под редакцией иеромонаха Никона (Париманчука) собрал в себе мудрость Церкви для ответа на вопрос: "Почему наши дети такие?"

Новая книга архимандрита Иова (Гумерова) посвящена житию Пресвятой Богородицы, ее прославлению и гимнографии, истории акафистов.
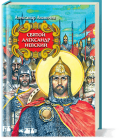
Иллюстрированная книга большого формата представляет собой художественный пересказ для детей жития благоверного князя Александра Невского.

Год борьбы со страстями: календарь 2022
Календарь издательства Сретенского монастыря на 2022 год посвящен святоотеческому учению о борьбе со страстями. В издании собраны наставления великих подвижников, от древних пустынников и учителей Церкви до святых XIX-XX веков.

Святое Евангелие на русском языке. Крупный шрифт
Издательство Сретенского монастыря выпустило Святое Евангелие на русском языке крупным шрифтом. Книга содержит церковные зачала и вставки с изображениями евангелистов.

Этот сборник рассказов о тернистом пути героев к Богу — большой подарок для тех, кому дорога православная Грузия и ее братский народ.

Войди в радость Господа твоего! Крестный ход Светлой седмицы
В основу издания положены евангельские чтения о явлениях Воскресшего Христа Своим ученикам на двух языках, церковнославянском и русском. К ним добавлены основные пасхальные песнопения крестного хода. В предисловии представлены краткие сведения и объяснение особенностей крестного хода на Светлой седмице.

В новом издании Псалтирь представлена в удобном малом формате, благодаря которому книгу можно читать дома и удобно брать собой в храм, на работу, на отдых.

Особенность нового издания — крупный шрифт, который позволит с легкостью читать молитвы даже при слабом освещении. Такой молитвослов — хороший подарок для людей, имеющих проблемы со зрением.

«“Попасть в Сретенку” и другие рассказы»
Автор изнутри открывает читателям удивительный микрокосм Сретенки и делает это очень увлекательно — повествование захватывает с первых строк. Даже если вы никогда прежде не интересовались семинарской жизнью, книга непременно затянет вас в водоворот удивительных событий, забавных случаев и промыслительных историй.

Будьте Мне свидетелями. Заметки на книгу Деяний святых апостолов
Заметки протоиерея Андрея Ткачева посвящены книге Деяний святых апостолов, которую читают в храме на протяжении всего пасхального цикла.

Человеческое тело в свете православного вероучения
Книга французского православного философа, богослова и писателя Жан-Клода Ларше призвана помочь читателю посмотреть на проблему человеческого тела, исходя из христианской антропологии и аскетики.

Книга стала уникальным явлением в исторической мысли: впервые была осуществлена попытка осмысления крестовых походов, их предыстории и их последствий за период с VII по XV век.

Домашнее последование воскресной вечерни, утрени, часов и обедницы
Книга содержит последования воскресного всенощного бдения 6-го гласа, а также последования часов и изобразительных (обедницы), адаптированные для совершения мирянином дома, в поездке или где-либо еще при невозможности посетить богослужение в храме.

Игумен Нектарий (Морозов) делится с читателями размышлениями о значении и значимости духовной жизни, о расстановке приоритетов и ориентиров, об отношении к церковным праздникам, общественным событиям и окружающим людям, о добродетели и подвижничестве. Подвиг сердца — это духовное восхождение каждого христианина в современном мире.

Промысл Бога и свобода человека по творениям cвятого Максима Исповедника
Существует ли свободная воля у человека, что лежит в ее основе, зачем она нужна, существует ли предопределение и как совместить собственную свободу воли и всемогущество Бога? Книга построена на творениях преподобного Максима Исповедника.

«Телефон доверия» и другие рассказы
Благодаря многолетней работе с прихожанами отец Александр в своих рассказах описывает не «картинное» православие, а реальность без прикрас: вот человек, зачастую на излете жизни, задумывается о вечности, переживает первую встречу с Богом или, наоборот, вдруг вспоминает о Нем, сорвавшись с благого пути в омут, но находит в себе силы успеть примириться с Господом.

В книге можно найти молитвы на принятие лекарства и иного врачевания, на всякую немощь, за немощного и неспящего, во время распространения вредоносного поветрия. Также в сборнике опубликована молитва о том, чтобы с любовью ухаживать за болящими. Все молитвы напечатаны стандартным гражданским шрифтом, что позволит даже невоцерковленному человеку помолиться по текстам сборника.

Святое Евангелие c выделением слов Спасителя красным цветом
Издательство Сретенского монастыря выпустило карманный вариант Святого Евангелия с выделением слов Спасителя красным цветом. Ранее большим успехом пользовался классический размер Евангелия, где также были выделены красным Слова Спасителя, но не всегда бывает возможным взять с собой книгу стандартного размера. Святое Писание и все слова, которые говорил нам Господь Иисус Христос, теперь могут всегда быть рядом, например, в поездке на работу, в командировке, в отпуске, на прогулке, в перерывах между занятиями.

Книга «Разве мы гордые?» призвана помочь читателю разобраться в этой непростой теме, опираясь на Священное Писание, наследие святых отцов и суждения современных пастырей. В ней не только глубоко изучаются причины возникновения гордости, но и предлагаются пути преодоления этой страсти в условиях современной жизни.

Главная особенность книги — красочные развороты с клапанами, целый мир новых знаний! Иконы праздников с кратким к ним описанием, рассказы о евангельских событиях в рисунках и небольших текстах, история возникновения того или иного праздника и сопутствующими ему православными традициями.

Особенность этого издания – новый состав приложений, адаптированных под каждую часть Служебника. Книги карманного формата, с удобным крупным шрифтом трех размеров.

Архимандрит Василий (Бокоянис)
На страницах книги читатели найдут яркие примеры борьбы со страстями, получат ценные советы и рекомендации в духовном делании и обретении свободы от греха.

Автор ведет искренний диалог с читателем о достоинстве и ответственности человека, о нашем предназначении и о том, как стать верными служителями Христа и обрести Царство Небесное.

Книга представлена в виде коротких заметок о православных традициях, обрядах и особенностях христиан по всему миру. Автор образно и живо рассказывает о необычных, удивительных и даже забавных обычаях Православных Церквей разных стран.

Бог верит в человека: проповеди
Архимандрит Симеон (Томачинский)
Сборник проповедей архимандрита Симеона (Томачинского), доцента Московской духовной академии. Основной темой проповедей являются взаимоотношения человека и Бога, Его безмерная любовь и доверие к Своему созданию.

Чиновник архиерейского священнослужения
У архиерея не всегда бывает возможность совершать богослужение по большому Чиновнику — в связи с отсутствием иподиаконов или при соборных службах. Для таких случаев и будет полезна эта книга. Книга качественно оформлена и может стать хорошим подарком для архиерея.

Святые Дары. «Можете ли пить чашу, которую Я пью?»
Книга раскрывает различные аспекты Евхаристии, помогает понять значение евхаристической тайны и жить ею на подлинной глубине. Книга предназначена не только для одноразового прочтения, ее будет полезно перечитывать время от времени, готовясь к приобщению Святых Христовых Таин.

Библейские истории: Семейное чтение
Издательство Сретенского монастыря выпустило новую книгу Лизы Келдвелл «Библейские истории: Семейное чтение» под редакцией архимандрита Иова (Гумерова). В книгу вошли рассказы об основных событиях Ветхого и Нового Заветов.

Требник на церковно-славянском языке (в 4 томах)
В Издательстве Сретенского монастыря вышел четырехтомный Требник на церковнославянском языке. В издании Требника собраны чинопоследования различных треб, использующиеся в церковной практике.

Четвертое издание книги «Малая Церковь. Жизнь семьи в современном мире» протоиерея Павла Гумерова рассказывает о современных семьях и о том, как защитить свою семью от опасностей, которые ее разрушают.

В поисках любви. Беседы о браке и семейной жизни
В книге собраны статьи о браке и семейной жизни авторства епископа Пантелеимона (Шатова), протоиерея Фёдора Бородина, протоиерея Александра Никольского, протоиерея Андрея Ткачева, протоиерея Алексия Уминского и протоиерея Павла Великанова.

Книга известного греческого проповедника архимандрита Андрея (Конаноса) завершает серию из десяти книг малого формата для широкого круга читателей о самых насущных вопросах духовной жизни христианина.

Игорь Евсин рассказывает о праведниках, которыми богата Русская земля, рассуждает о высоком подвиге юродивых Христа ради и чистоте их душ.

Семейные конфликты: Профилактика и лечение. Взгляд священника
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», - писал Л. Толстой. Книга протоиерея Павла Гумерова поможет разобраться в том, как избежать конфликтов в семье с точки зрения священника.

Книга «Юродивый Гавриил (Ургебадзе)» архимандрита Кириона (Ониани) посвящена грузинскому старцу, преподобноисповеднику и юродивому Гавриилу (Ургебадзе) (1929-1995), канонизированному Грузинской Православной Церковью в 2012 году.

«Я открываю храм» - цветная подарочная книга для детей и их родителей о храме и его устройстве, о монастыре и монастырской жизни, о Церковных Таинствах.

Чтения на каждый день Великого поста
Книга в мягком переплете, созданная специально для ежедневного чтения Великим постом, вышла в Издательстве Сретенского монастыря.

Православный молитвослов издательства Сретенского монастыря дополнен акафистами, воскресными тропарями восьми гласов, а также наиболее распространенными молитвами при разных жизненных обстоятельствах.

Книга «Неисчерпаемый источник» архимандрита Андрея (Конаноса) – новинка Издательства Сретенского монастыря – будет полезна всем, кто ищет источник радости в каждом дне.

«Таинство Причащения» - книга серии «Таинства и обряды» - составлена протоиереем Павлом Гумеровым. Автор повествует о происхождении Таинства Причащения и о его значении в жизни каждого верующего.

Издательство Сретенского монастыря представило книгу «Постовой дневник» протоиерея Андрея Ткачёва. Книга сделана в формате дневниковых записей и представляет собой изложение личного опыта прохождения Великого поста.

Протоиерей Александр Никольский
В своей книге протоиерей Александр Никольский затрагивает такие актуальные темы, как любовь и влюбленность, романтика в браке, особые дети в семье, трудности семейной жизни и пути их преодоления.
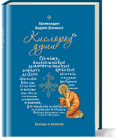
В Издательстве Сретенского монастыря вышел сборник бесед архимандрита Андрея (Конаноса) – «Кислород души». В беседах греческий проповедник дает прикладные советы для духовного развития.

В Издательстве Сретенского монастыря вышла детская книга «Как Бог творил мир» Нины Орловой-Маркграф. Книга снабжена иллюстрациями.

Эта книга — небольшой иллюстрированный рассказ для детей о том, что случилось в маленьком городке Вифлееме на окраине Римской империи больше двух тысяч лет назад. О событиях этого великого христианского праздника можно рассказывать детям весь Рождественский пост.

Эта книга для девочек и мальчиков, которым интересно самим что-нибудь приготовить и порадовать своих родных, друзей и знакомых. А угощение получится особенно вкусным, если готовить его с молитвой.

Требник малый представляет собой сокращенный вариант большого Требника. В нем содержатся последования священнодействий и молитвословий, которые чаще всего приходится совершать приходскому священнику.

Как важен в воспитании родительский пример, как научиться не давить на ребенка, а завоевать его доверие, выслушать, понять, чем он живет. Этим вопросам посвящен новый сборник бесед архимандрита Андрея (Конаноса).
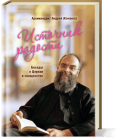
В новый сборник известного греческого проповедника архимандрита Андрея (Конаноса) входят беседы о том, как относиться к таинствам, о Божественной литургии и ее значении в жизни каждого человека.

В книге собраны беседы архимандрита Андрея (Конаноса) о том, как не отчаяться в горестях, как во всем видеть промысл Божий и верить, что все происходит с нами по воле Божией, как уметь среди скорби находить радость.

В сборник вошли избранные рассказы из книг «Зеленой серии надежды», полюбившиеся читателям. Они разные, но их объединяет одно: счастье человека – в том, чтобы увидеть Промысл Божий в жизни, в ближнем – человека, в каждом событии, порой скорбном, – поворот к лучшему…

Счастливая семья. Создать и сохранить
В сборник вошли беседы современных духовников Элладской и Кипрской Православных Церквей. Пастыри расскажут читателю обо всем, что ожидает человека, решившегося встать на стезю семейной жизни, – от выбора будущего спутника до разрешения сложных конфликтных ситуаций и проблем с воспитанием детей.

Христианские корни европейской цивилизации и Россия
Корни настоящего – всегда в прошлом. Корни недавнего прошлого уходят в древние слои исторической почвы. Знать прошлое и, главное, понимать его – дело полезное. Такое знание помогает делать правильный выбор, лучше видеть границу между реализуемыми замыслами и несбыточными прожектами.

Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов)
Монография посвящена жизни и деятельности одного из выдающихся ученых и проповедников XIX столетия – епископа Иоанна (Соколова). Личность преосвященного Иоанна и его труды являются незаурядными и яркими даже на фоне его великих современников, таких как святители Филарет Московский, Иннокентий Херсонский, митрополит Макарий (Булгаков).

Утешение скорбящим о смерти близких
В этой книге объединено все, в чем нуждаются люди, потерявшие близких: объяснение того, что, по учению Православной Церкви, происходит с человеком после смерти; молитвы о упокоении усопших; богооткровенные мысли святых отцов о тайне смерти.

В сборнике собраны беседы известного греческого проповедника архимандрита Андрея (Конаноса) о молитве, о необходимости выстраивания личных отношений с Богом, о том, без чего не может существовать ни одна христианская душа.

В новой книге известного миссионера и публициста протоиерея Андрея Ткачева собраны его беседы о воспитании и образовании детей, о роли отца и матери и об иерархии ценностей в семье.

Семейная жизнь ветхозаветных патриархов. Авраам, Исаак, Иаков
В книге известного проповедника протоиерея Олега Стеняева подробно анализируются семейная жизнь ветхозаветных патриархов и связанные с этим вопросы – создания семьи, рождения и воспитания детей, отношений мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер, любовных «треугольников».
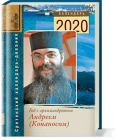
Год с архимандритом Андреем (Конаносом)
Календарь-дневник на 2020 год составлен по беседам известного греческого проповедника архимандрита Андрея (Конаноса), который дает добрые советы супружеским парам.

В сборнике архимандрита Андрея (Конаноса) собраны беседы о том, как выбирать будущего спутника жизни, как учиться полагаться на волю Божию, как сохранить отношения в браке.

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...»
В этой книге автор, опираясь на опыт Церкви в вопросах брака, доверительно беседует с молодежью о том, как найти спутника жизни, о трудностях, которые могут возникнуть в отношениях, и о путях их преодоления.

Евагрия Понтийского «Монах, или Практический трактат. Сто глав о духовной жизни»
Главная цель комментатора творения аввы Евагрия Понтийского схиархимандрита Гавриила (Бунге) – «создать на основе “Монаха” своего рода руководство по духовной практике “в духе Евагрия”, который самым непосредственным образом перенял и усвоил духовную традицию древнего монашества».

Книга протопресвитера Василия Каллиакманиса адресована в первую очередь священникам, педагогам, православным психологам. В ней затрагиваются вопросы, связанные с мирным сосуществованием двух полов, воспитанием детей, домашним насилием, нравственными дилеммами.

Главный герой повести Леона Гельевича Костевича – бывший московский актер Эсхил Христофоридис. Он обращается в православие, уходит из театра и увозит семью к себе на родину — в провинциальный городок. Здесь Эсхил встречает старых друзей и старается приобщить их к вере. «Я не могу спокойно думать о том, как они все пойдут в ад!», – объясняет он свое рвение.

В своей новой книге протопресвитер Стефан Анагностопулос предлагает краткие размышления-рассуждения о духовной жизни современного христианина, о его внутренней борьбе с грехом, о роли духовника в деле спасения, о покаянии и исправлении, молитве, благодати, унынии и депрессии.

«Не убивайте чудо!» и другие рассказы
Это сборник рассказов, посвященных теме удивительных событий в жизни людей и чудес, которые могут случиться с каждым из нас. Они могут быть большими и маленькими, но их способен заметить лишь внимательный к себе и окружающим человек. Автор говорит о главном — о чуде преображения человеческой души, которое происходит при встрече с Богом. За повседневной суетой этот миг легко пропустить.

Книга содержит жизнеописание схиигумена Иоанна и его письма разным лицам. Письма старца — это, по существу, переложение аскетического учения святых отцов для современного человека.

Всюду Бог. Записки странствующей художницы
Мастер песочной анимации художница Ксения Симонова описывает интересные встречи и храмы, которые посетила во время гастролей по всему миру.

Симфония по трудам архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Настоящая симфония — это сборник духовных наставлений архимандрита Иоанна (Крестьянкина), своеобразная духовная аптечка, удобное подспорье для быстрого поиска нужного духовного совета при сложных обстоятельствах жизни.
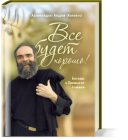
Все будет хорошо! Беседы о Промысле Божием
В книге издательства Сретенского монастыря «Все будет хорошо!» собраны беседы архимандрита Андрея (Конаноса) о Промысле Божием, о ежеминутном участии Бога в жизни человека, о том, как научиться во всем видеть волю Божию и доверять Творцу.

Лекарство от одиночества. Беседы о любви
В книге собраны беседы архимандрита Андрея (Конаноса) о том, что такое настоящая любовь, как научиться любить и как с помощью любви наладить отношения со всеми людьми, что нас окружают.
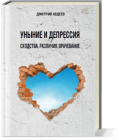
Уныние и депрессия. Сходства, различия, врачевание
Основная цель книги Дмитрия Авдеева – показать, что значительная часть депрессивных состояний – следствие греховного образа жизни, результат губительного действия греха на душу человека. Вместе с тем существует и такой тип депрессий, который развивается «от естества» и не связан напрямую с нравственными причинами.

Воздушные мытарства, или Экзамен, которого нельзя избежать
Книга, основу которой составили лекции, прочитанные в разное время протоиереем Олегом Стеняевым, освещает библейское и святоотеческое обоснование учения о мытарствах — своего рода экзамене, который проходит человеческая душа после смерти.

Христос — это свобода! Если ты постишься под чьим-нибудь давлением, тогда не стоит поститься. Если ходишь в церковь под давлением, Христос опечаливается. Или если с трудом встаешь, чтобы помолиться, то Бог от тебя не хочет этого насильно.

Московский Сретенский монастырь : Возрожденный трудом и молитвой : фотоальбом
К 25-летию возрождения Сретенского ставропигиального мужского монастыря в издательстве монастыря вышел фотоальбом, в котором тематически скомпонованы фотографии, отражающие этапы восстановления древней обители.

Автор – иеромонах Серафим (Катышев) – сумел соткать из, казалось бы, разрозненных рассказов о тяжелых судьбах людей большое и светлое полотно о единстве общей судьбы русского народа, о взаимосвязи жизней человеческих, основанной на верности вере отцов и матерей.

Книга совпадений. Чудеса на дороге к Богу
В новую книгу Александра Казакевича вошли художественные рассказы о паломничествах в Грузию, в монастыри России, на Святую Землю. С паломниками все время происходят приключения, а совершающиеся чудеса напоминают читателю о Промысле Божием в судьбе каждого человека.

Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации
Фундаментальный труд профессора Михаила Олеговича Шахова по современному российскому законодательству о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Сретенский монастырь: прошлое и настоящее
Брошюра, выпущенная издательством Сретенского монастыря к 25-летию возрождения обители после ее закрытия в 1926 году, знакомит читателя с историей монастыря, его возрождением, строительством нового собора и жизнью сегодня.

Православный взгляд на онкологию. Протоиерей Сергий Филимонов
Задача книги — помочь больному правильно отнестись к своей болезни и окружающим обстоятельствам, настроиться на лечение и жизнь, обрести христианское отношение к болезни.

Послания апостола Павла. Пособие по изучению и толкованию. Протоиерей Стефан Жила
В пособии излагается содержание посланий, краткие исагогические сведения о них, приводится доступное толкование, а также уясняются вероучительные истины, касающиеся догматического учения Церкви. Большое внимание уделено раскрытию апостолом Павлом нравоучительных истин, то есть приложению вероучения в христианской жизни.

Псалтирь. Гражданский крупный шрифт
В издательстве Сретенского монастыря вышла церковнославянская Псалтирь (в гражданской орфографии) крупным шрифтом. Книга предназначена для келейного чтения при слабом освещении и для слабовидящих.

Потусторонний мир реальнее и ближе, чем мы обычно думаем, а путь к нему открывается нам через жизнь духовного подвига и молитвы, которую Церковь дала нам как средство спасения. Эта книга посвящена и адресована тем, кто хочет вести такую жизнь.

В книге собраны размышления архимандрита Иоанна о жизни по слову Божьему, донесенному нам в благой вести Евангелия, о противостоянии своим греховным желаниям, о покаянии, молитве и посте, о значении скорбей и болезней, о крестоношении, о правильном и ложном пути духовной жизни христианина.

В книге собраны наставления архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о выборе между миром и монастырем, о важности родительского благословения, а также личные советы архимандрита Иоанна о внутренней монашеской жизни.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Книга размышлений о Боге – Творце человека, для которого Он является источником жизни; о Божией любви и о Промысле Божием; о смысле и цели земной жизни человека как встречи с Богом.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
В книге собраны советы архимандрита Иоанна, как идти за Христом по дороге жизни. «Спасение-то – вот единственно важное дело в жизни нашей, все остальное – поделье».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Человек постоянно совершает на земле выбор, с кем он, и своими поступками, взаимоотношениями с ближними определяет свою вечность. Мир или монастырь, повседневный труд или самообразование?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
В книге собраны наставления и советы скорбящим духовным чадам. Скорби и болезни, крестоношение и терпение – все это неотъемлемые части жизни каждого человека. Но только вера в Промысл Божий, жизнь с Богом, молитва и смирение дают душе мир и становятся уроками милосердия в отношении к ближним.
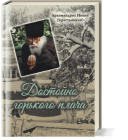
Духовные болезни и проблемы современного человека — это последствие его отступления от Источника жизни — от Бога. Как излечиться от них, рассказывается в книге.
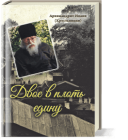
В книге рассказывается о таинстве Брака, о взаимоотношениях супругов в их повседневной жизни и о воспитании детей. Без внимания не остались проблемы и внутрисемейных конфликтов, а также причины распада семей.

О судьбе России и русского человека, о нелегком бремени священства, о том, что мешает современному человеку исповедоваться и с какими трудностями сталкиваются священники, совершающие Таинства в Церкви, о святых, которые невидимо находятся рядом с нами, а также о непонятных для нас строках Священного Писания.

Стояние в молитве. Рассказы о Святой Земле, Афоне, Царьграде
В новой книге известного писателя и публициста Владимира Николаевича Крупина впервые воедино собраны рассказы и дневниковые записи о Святой Земле. В книгу вошли также повествование о Святой Горе Афон и рассказ о Царьграде.

Избранное: статьи и исследования. Диакон Сергий Трубачёв
Главные темы, определяющие содержание не только книги, но и всей жизни и творчества автора, — это Церковь и музыка. В статьях и автобиографических заметках воссоздается духовная атмосфера русской жизни ХХ века.

Митрополит Лимасольский Афанасий
В сборнике бесед уже полюбившегося русским читателям автора речь идет о правильном, христианском понимании смысла брака.

Церковь грешников. Архимандрит Варнава (Ягу)
В новой книге отец Варнава призывает нас отыскивать в самих себе семена того разлада и той разобщенности, которые сейчас существуют между людьми. Снова и снова он напоминает, что положение вещей в мире зависит от каждого из нас.

Райский сад. Ганс Христиан Андерсен
Сказки с комментариями будут интересны родителям, которые уже знакомы со Священным Писанием или только начинают знакомиться с верой. Они помогут объяснить детям скрытый в сказках христианский смысл. А может, прочитав комментарии, кто-то впервые заинтересуется верой и Евангелием.

Житие святителя Спиридона Тримифунтского. В пересказе для детей
Читая житие, дети могут увидеть, что никакие испытания не могут повредить тому, кто уповает на Христа», — считает автор. И это — самый главный урок, который мы можем и должны преподать нашим детям.

Новая повесть Ольги Рожневой посвящена широкому периоду в мировой истории — 1904–1955 годам. Вместе с главной героиней Ритой читатель пройдет через горнило испытаний и переживет все, что выпало на долю русских эмигрантов.

Вместе тесно, а врозь скучно. Советы для гармоничной совместной жизни
Книга будет полезна и парам, которые хорошо живут, и тем, кому приходится несладко, и тем, кто уже устал бороться. Не прибегая к сложным богословским рассуждениям, без назиданий, тепло и сердечно ведет свой рассказ отец Андрей.

Рассказы о непростой проблеме — больной ребенок и мир — собраны в книге Надежды Тузинайте «Радуйтесь!». Как сделать светлой, доброй, Божьей жизнь от самого, казалось бы, прихода в мир обделенного ребенка?
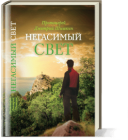
Негасимый свет. Священник Димитрий Шишкин
Отец Дмитрий искренне рассказывает о своих духовных исканиях, о неутолимой жажде Бога, которая с самого детства побуждала его во всем находить отблески Божественной красоты. Он позволяет читателю заглянуть в потаенные уголки своего сердца, начиная от светлых детских озарений и заканчивая духовными переживаниями уже зрелого человека, облеченного в священнический сан.

Четыре египетских пустынника (по коптским фрагментам “Лавсаика”)
Эти уникальные тексты содержат множество деталей, которые исчезли из дошедшей до нас редакции «Лавсаика». В книге впервые собраны вместе фрагменты, которые на протяжении долгого времени были разбросаны по различным специализированным изданиям и оставались в связи с этим малодоступными.

Царь. Книга о святых царственных страстотерпцах.
О роли монархии в судьбе России, об исповедническом пути последнего российского императора и членов августейшей семьи, о чудесах, являемых по молитвам к царственным мученикам. В воспоминаниях, собранных в этой книге, почти нет никаких чудес в обычном понимании слова, но в них есть нечто иное.
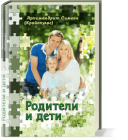
Родители и дети. Архимандрит Симеон (Крайопулос)
Тема «Родители и дети» рассматривается с двух точек зрения: психологической и духовной. Автор считает, что сама по себе психология или педагогика, не будучи освященными благодатью Божией, благодатью Святого Духа, не принесут никакой пользы, а могут даже навредить.

Видимое невидимое. Александрина Вигилянская
Автор делится невыдуманной историей своего поиска Промысла Божьего — историей путешествия не только в пространстве, но и во времени, через века, от настоящего к прошлому.

Календарь-2019. Год с греческими святыми и подвижниками ХХ века
В новом календаре на 2019 год собраны жития и духовные наставления преподобных Паисия Святогорца, Порфирия Кавсокаливита, Амфилохия (Макриса) и других греческих святых, беседы и советы известных современных проповедников: митрополитов Лимасольского Афанасия и Месогейского и Лавреотикийского Николая, архимандритов Германа Ставровуниота, Епифания (Феодоропулоса) и Андрея (Конаноса) и многих других греческих отцов.

Тихие воды последней пристани. Архимандрит Иов (Гумеров)
Новая книга отца Иова проникнута одной центральной мыслью: Господь через разные события, испытания, встречи вел его к Себе. Во всех событиях своей жизни автор книги видит руку Божию.

В новой, обильно иллюстрированной книге издательства Сретенского монастыря автор стремится помочь юным христианам подготовиться к таинству Исповеди. Неспешно знакомясь с главами книги, читатель войдет в мир тех духовных и нравственных понятий, которые составляют существо христианской жизни, протекающей под руководством Православной Церкви.

Мужчину Бог создал первым, жену — второй. Истина прописная, но важно приучить себя делать практические выводы из прописных истин... На мужчине должна лежать основная тяжесть внешней жизни, тогда как на женщину ложится тяжесть внутренняя, семейная. Можно сказать, что муж пахнет ветром (он трудится на внешних рубежах), а жена — очагом (на ней забота о доме).

Православный молитвослов и Псалтирь
«Православный молитвослов и Псалтирь» содержит ежедневное утреннее и вечернее правило; каноны, акафисты и последование ко святому Причащению; тексты Всенощного бдения и Божественной Литургии и Псалтирь. Молитвослов дополнен песнопениями из служб воскресных, будничных, песнопениями из служб на всякую потребу и молитвами на разные случаи жизни.

Православные христиане в СССР. Голоса свидетелей
Рассказы людей, помнящих Великую Отечественную войну, голод и разруху, помнит наши победы и поражения, гонения на Церковь, возрождение послевоенной России, подвиги мучеников и исповедников православной веры, а также возрождение православной жизни в России в конце 80-х — начале 90-х годов.

Книга обращена ко всем молодым людям и девушкам, ответственно подходящим к самому серьезному выбору, который им предстоит совершить — выбору будущего спутника жизни, и их родителям. В Греции книга «Знакомство для брака» выдержала уже несколько изданий, и интерес к ней не угасает.

Митрополит Лимасольский Афанасий
Митрополит Афанасий – один из самых известных проповедников в современном греческом православном мире. Он был знаком со многими афонскими старцами и впитал в себя их духовную традицию. Уже много лет он регулярно проводит со своей паствой открытые беседы, которые пользуются большим успехом, особенно у молодежи.

«Псалтирь» на церковнославянском языке удобного малого формата, содержит помимо 20 кафисм, молитв по их прочтении и последования по исходе души от тела, — церковнославянскую азбуку, список слов, которые могут встречаться под знаком титла, словарь некоторых церковнославянских слов и сравнительную таблицу чисел.

Солнце русской поэзии и грозы истории. К 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина
Автору удалось уловить тектонические движения русской истории и показать их связь с историей всемирной, сумел он также показать глубинный смысл всемирно-исторического процесса — борьбу Христа и антихриста и конечную победу Христа, за которой последует Страшный Суд.

Старец с Патмоса Амфилохий (Макрис). Жизнь. Заветы. Свидетельства
Старец Амфилохий, будучи насельником монастыря св. Иоанна Богослова на острове Патмосе, основал два женских монастыря, вел активную просветительскую, миссионерскую и благотворительную деятельность, на его попечении и окормлении состояли сиротские приюты, школы, благотворительные фонды.

Основу книги об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) составляют воспоминания его многолетней духовной дочери Сусанны Валовой, более 50 лет находившейся под его духовным руководством. Ее повествование дополнено свидетельствами людей, сопровождавших пастыря в различных местах его церковного служения.

Герои рассказов — жители российской глубинки, миряне и священники. Истории, в которые они попадают, проникнуты христианским духом, наполнены юмором и примерами побед — больших и малых.

Отличное познавательное пособие и для детей, и для взрослых, которые делают первые шаги в храме. А загадки и вопросы в конце каждого раздела делают чтение еще увлекательнее и помогают лучше запомнить прочитанное.

Нравственное благовестие апостола Павла
О чем бы ни шла речь в посланиях апостола Павла, сразу бросается в глаза, что все нравственные осмысленности и напряжения своих призывов апостол таинственно возводит к славе Христа, явленной в кресте, воскресении и вознесении.

Фундаментальный труд известного современного церковного автора Владислава Цыпина, митрофорного протоиерея, профессора, доктора церковной истории, богослова, филолога и правоведа. Данное произведение представляет собой переработанный и сокращенный вариант первых трех томов серии «История Европы: дохристианской и христианской».

Владыка Симон (Новиков; 1928–2006) — митрополит Рязанский и Касимовский с юности проявил себя подвижником, человеком неколебимой веры, молитвенником. Его удивительный дар слова, внимательное и доброжелательное отношение к людям, энциклопедические знания неизменно привлекали к нему множество людей.

Юлия Кулакова, рассказывает и о пути своего воцерковления, и о служении уже в качестве матушки священника, о том, как живут приходы Русской Православной Церкви за рубежом, об опыте общения с детьми в воскресных школах православных приходов в Доминиканской Республике.

Приняв благообразный вид, то есть сменив джинсы на платья и скромно нацепив платок, не забыв выпустить из-под него кудри — товар лицом, так сказать, — я стала ходить на службы, поститься, молиться и глазеть по сторонам. Бородатые женихи как-то не спешили со своими руками и сердцами.

Жизнь после смерти согласно Православной традиции
Смерть — это великая тайна. Как отмечали многие философы, она является единственным определенным фактом нашего будущего и вместе с тем остается одним из самых неопределенных явлений, если говорить о природе смерти и ее последствиях.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге)
Духовный отец — это врач и учитель в одном лице, по образу Христа. Именно духовному отцу как никому другому известно, «какие лекарственные средства ведут от зла к добродетели и от незнания к ведению».

Дмитрий Александрович Дмитриев – писатель, поэт и сценарист, много лет пишущий для детей. Многие его рассказы и сценарии были написаны для детских передач на радио «Радонеж» и телеканале «Радость моя».

Удивительное путешествие в православную Грузию
Книга посвящена поездке писательницы в православную Грузию, встречам с ее святынями, монастырями, священниками. В этом путешествии было много удивительных событий, совпадений, помощи Божией и утешения от грузинских святых.

Большая жизнь маленького Ванечки
Жизнь в деревне наполнена трудом, уважением к старшим, любовью к природе и животным. И это определяет будущее мальчика — ведь воспоминания детства как путеводные маячки светят всю жизнь.

Главный герой книги ищет свой путь к Богу. На этой жизненной дороге было много разных встреч. Каждая из них постепенно раскрывала действие Промысла Божия в судьбах людей. Повествование ведется правдиво и без прикрас, но с добрым юмором и уважением к людям.

Игумения Варвара – известная подвижница XX века – олицетворяет собой целую эпоху русского женского монашества. Ее по праву называли игуменией всея Руси. Более пятидесяти лет она подвизалась в монашеском чине, из них более сорока лет несла тяжелый крест игумении Пюхтицкого монастыря.

Записки бабушки-христианки, бывшей студентки МГИМО
В новой книге Е.П. Прокофьевой – юриста-международника, журналиста и писателя – собраны реальные истории, рассказы о паломничествах, храмах, монастырях и их обитателях, с которыми автора связывает многолетняя духовная дружба.

Все сюжеты, живые и трогательные, веселые и грустные, взяты из жизни. Автор, талантливый, мудрый священник хочет, чтобы читатель увидел образ Божий в каждом человеке и утвердился в том, что миром правит доброта.

Повести и рассказы из духовного быта
Наиболее яркие произведения Игнатия Потапенко посвящены жизни приходского духовенства — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Будучи сыном сельского священника, он сделался отличным бытописателем городков, деревень и местечек южнороссийских губерний, изобразителем мещанских нравов, чиновничьей психологии, беспросветного существования городских низов.
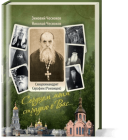
В настоящем издании содержится не только рассказ о жизненном пути преподобного Серафима (Романцова); особенный интерес представляют выдержки из писем и советы старца, бережной с любовью собранные авторами в данной книге.

В сборник вошли рассказы о разных периодах прошлого нашей страны. В разное время жили эти люди, но их объединяли вера, преданность своему делу, верность, любовь, преодолевающая все невзгоды.

Homo religiosus: на путях поиска истины
В основе издания лежит курс лекций по предмету «История религий», читаемых автором, протоиереем Олегом Корытко, в Сретенской духовной семинарии на протяжении более 15 лет.

Священная библейская история в этом отношении стоит выше всех других историй, потому что ее предметом являются глубинные основы человеческого духа, в ней раскрываются глубочайшие законы всемирно-исторического развития. Она явно показывает, что в истории народов нет ничего случайного и произвольного.

Совершенно новая книга «Закон Божий». Ее авторы — архим. Иов (Гумеров) и его сыновья-священники Павел и Александр — опирались, с одной стороны, на творческий опыт своих предшественников, с другой — стремились ответить и на вызовы современной жизни, учтя те глубокие изменения, которые произошли в нашем обществе за последние полвека.

Книга посвящена митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу; 1892–1961), выдающемуся архиерею и проповеднику, первому председателю Отдела внешних церковных отношений Московского Патриархата, пастырю, богослову, дипломату. Митрополита Николая современники называли «Златоустом XX века».

Автор рассказывает евангельскую историю Рождества Христова, объясняет смысл праздника простым, доступным для ребенка языком. Текст сопровождается загадками и стихами, которые делают чтение интересным и увлекательным.

Божьи искорки. Невыдуманные истории
Невыдуманные истории объединены одной мыслью. Исповедальные по сути, они представляют собой радостное откровение человека, который видит в течении обыденной жизни ее глубинную соединенность с Небом. Что бы ни случалось с автором этих рассказов, его родными и близкими, коллегами, а порой и вовсе малознакомыми людьми – все проникнуто ощущением Божественного смысла бытия.

Денис Ахалашвили пишет о своем духовнике схиархимандрите Власии (Перегонцеве), вспоминает Пафнутьев Боровский монастырь. Рассказывает о возрождении храмов, о чудесных событиях в своей жизни и жизни знакомых ему людей, о святынях, с которыми соприкоснулся.

Чиновник архиепископов Новгородских
Настоящий том содержит полный текст уникальной богослужебной рукописи – древнерусского Требника (точнее, Постригальника) конца XIV века

Рождество Христово. Крещение Господне
В сборник входят тексты богослужебных последований праздников Рождества Христова и Крещения Господня, а также последования часов, совершаемых накануне праздников. В приложении печатаются поучения святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Кирилла, архиепископа Иерусалимского, на дни этих церковных торжеств.

В 1880-х – самом начале 1890-х годов Николай Семенович Лесков работал над циклом легенд о ранних христианах Египта и Ближнего Востока. По сути, труд его явился художественным переложением пролога — сборника житий святых, составленного в Византии в X–XI веках (эти легенды и вошли в наш сборник).

«В личной нашей духовной жизни, знаете, чего недостает? Нет напряжения у нас к ношению помысла Иисусовой молитвы, нет осторожности в употреблении речи, мало понуждения себя прощать всех, пред всеми смиряться, мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться».

Куда бы ни привела судьба героев Марии Сараджишвили, они не сойдут с основного пути – дороги к храму. Пусть даже путь этот тернист и омыт слезами.

Книга шведского православного писателя Тита Коллиандера посвящена важнейшей теме духовной жизни христианина — ежедневному аскетическому подвигу борьбы со страстями и очищения сердца ради обретения Царствия Божия.

Начало премудрости. По страницам Священного Писания
Беседы о вере, о Боге, о месте религии в современном мире. Донесенные до слушателя (а теперь и читателя) образным, ясным языком, они будут поняты и приняты каждым, кто стремится прикоснуться к миру Божественной правды.

Архиепископ Аверкий стяжал дар духовного рассуждения, дар различения духов, что позволяло ему безошибочно обнаруживать и обличать самые утонченные духовные подделки и соблазны, которыми переполнен современный мир. Его предостережения имеют непреходящий характер.

Душа человека интуитивно стремится к любви: любви к Богу, к ближнему... Как легко эту естественную устремленность направить по ложному пути и вместо истинной любви пригреть в своем сердце ее суррогаты.

В сказочный узор сложились обычаи и нравы жителей кубанской земли, истории из станичных летописей и быта казаков. Это память о тех, кто жил две сотни лет назад, об их благородстве и верности.
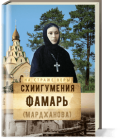
Схиигумения Фамарь (Марджанова)
Грузинская княжна, принадлежавшая к знатному роду, она оставила мир и последовала за Христом, став исповедницей Русской Православной Церкви. В 2016 году схиигумения Фамарь канонизирована Грузинской Православной Церковью.

Священномученик Фаддей (Успенский)
Патриарх Тихон говорил о нем: «Знаете ли вы, что владыка Фаддей — святой человек? Он не обыкновенный, редкий человек. Такие светильники Церкви — явление необычайное».

Священномученик Иларион (Троицкий)
Вся его жизнь, вплоть до мученической кончины, была горением любви к Церкви Христовой. И даже внешне он, высокий, широкоплечий, с русой бородой и строгими, иконописными чертами лица, напоминал настоящего русского святителя.

«Господи, что с нами будет?» и другие рассказы
В книгу вошли новые рассказы Олеси Александровны, в которых она повествует о действии Промысла в мире и душе человека, о милости нашего Спасителя и Бога.

Житие праведного Иоанна Русского в пересказе для детей
Помолиться святому Иоанну приезжают паломники со всего мира. По его молитвам совершаются удивительные чудеса. Особенно покровительствует святой детям.

«Все записанное буквами человеческими недалече от Бога. Всюду, где есть альфы и омеги, беты и гаммы, всюду, где есть текст, должен быть и Христос».
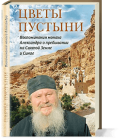
Среди тех, о ком пишет отец Александр, есть и прославленный ныне святой мученик и преподобные, есть бедные и многодетные бедуины-кочевники и семья копта, владельца маленького ресторанчика, есть и продавец овечьего навоза и жадный и богатый скотовод, вразумленный за свою алчность.

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай
В книгу вошли беседы об Афоне и особенностях святогорского исихазма, не изданные до сих пор личные дневниковые заметки автора, а также его статьи и доклады о схимонахе Иосифе Исихасте и преподобном Силуане Афонском — носителях Божественной благодати и учителях Иисусовой молитвы.
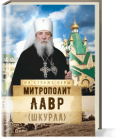
«Владыка завершил свой жизненный путь самым важным событием — восстановлением единства Русской Церкви. Это состоялось при нем, и, я думаю, без него это было бы немыслимо. Поэтому мы должны сохранить благодарность ему именно за это великое дело».

Строгая верность православию, глубокая молитвенность, любовь к родным духовным и церковным традициям и церковнославянскому языку, смиренномудрие стали теми качествами, которые отличали Патриарха Пимена и помогали ему вести церковный корабль.

Патриарх Сергий (Страгородский)
Борец за сохранение Церкви в эпоху жесточайших гонений, подвижник и молитвенник, истинный пастырь, он являлся также крупнейшим ученым в области богословия, церковной истории и философии, миссионером, церковным писателем, знатоком новых и древних языков, автором богослужебных текстов.

Малая Церковь. Жизнь семьи в современном мире
Христианскую семью иногда называют малой Церковью. И миссия этой Церкви — нести людям свет, проповедовать истину, что есть крепкие, счастливые семьи, где люди верят в Бога и любят друг друга.

Как я бросил пить. Опыт борьбы с «зеленым змием»
«Потому паки и паки призываю вас, дорогие мои собратья-алкоголики, уверовать в то, что только Господь может исцелить по-настоящему. Но знайте и другое – даже Господь не сможет вас исцелить, если вы сами не захотите этого».

В книгу вошли новые рассказы писателя, в которых происходят порой странные вещи – слабый побеждает сильного, шалопай отказывается от почестей, а один человек своей добротой вдруг оказывается способен изменить всех вокруг себя.

Если вечная жизнь существует, я хочу жить!
Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай
Это плод пустыни; я бы сказал — и молитвы, но опасаюсь болезненных преувеличений. Важно, чтобы через эту книгу подлинно явилась человеческая природа и явно проявилось лицо истинного Бога. В жизни нет ничего более ценного.

Не бойся радоваться! Беседы о Православии
Великое дело — успокоиться. Довериться. Возьми свою проблему и положи ее к ногам Христа.

Книга написана на основе воспоминаний прихожан храма святого Георгия Победоносца в городе Тырныаузе (на Северном Кавказе) о первом настоятеле, священнике Игоре Розине, убиенном 13 мая 2001 года, в день памяти святителя Игнатия (Брянчанинова).

Жизнь и труды священномученика Илариона
Автор предлагает не только обзор основных работ и событий жизни архиепископа Илариона (Троицкого), но и, насколько это возможно, раскрытие связи учения о Церкви, которого придерживался священномученик, с его духовным обликом и исповедническим подвигом.

О русской катастрофе — революции 1917 года — и ее причинах написано так много… и все равно остаются тайны. Тайна отречения государя. Тайна Божественного Домостроительства. Тайна России... Книга «Апостасия» написана о времени до- и послереволюционном.

Митрополит Тихон (Шевкунов) писал о епископе Василии: «В его поразительной жизни было много такого, чего иначе как чудом назвать нельзя. Можно, конечно, назвать эти случаи и совпадениями. Сам владыка Василий на вопрос о “совпадениях” обычно, усмехался: “Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются”».

Книга представляет собой сборник научных работ, написанных в разное время. Первая группа статей содержит размышления автора о времени преподобного Сергия, о Епифании Премудром как его агиобиографе. В статьях, посвященных преподобному Иосифу, рассматривается распространившаяся в русском обществе его времени ересь жидовствующих, характеризуется в целом литературное наследие Иосифа.

«Дневники» М. Л. Казем-Бек отвечают лучшим эстетическим и мировоззренческим критериям и стоят в одном ряду с наиболее значительными произведениями жанра мемуаров: «В “Дневниках” много ярких, убедительно достоверных зарисовок дворянского и народного быта.

Житие священномученика Илариона (Троицкого)
В илюстрированной книге для детей рассказывается о жизненном пути священномученика Илариона (Троицкого, епископа Верейского, † 15/28 декабря 1929 г.), подвизавшегося в труднейшие, воистину страшные годы гонения на Церковь.

Бабушка, а почему? или Разговоры с внуками
То, что ребенок видит и слышит в младенчестве, остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно наполнить сердце и ум ребенка светом и добром с самого раннего детства. Необходимо выстраивать быт семьи и внутрисемейные отношения так, чтобы они содействовали духовному воспитанию детей, спасали их от безверия мира.

Новая иллюстрированная книга для детей о жизни пророка Даниила. Пророк Даниил — один из удивительных ветхозаветных пророков, называемый в Библии «муж желаний». Он настолько угодил Богу своей праведной жизнью, горящим духом и смирением, что Господь даровал ему разум видеть тайный смысл событий настоящего, прошлого и будущего.

Святая Гора — высочайшая точка Земли
Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай
Книга митрополита Николая — это дневник путешествий автора на Афон в 70-е годы XX века и в наши дни. Записи и размышления владыки приоткрывают мистическую и скрытую от посторонних глаз жизнь святогорцев — от безымянных отшельников до известных православному миру подвижников, таких как Паисий Святогорец или Герасим Микраяннанит.
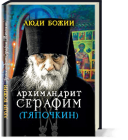
Архимандрит Серафим (Тяпочкин)
Отец Серафим делился: «Хорошо, что службу знал на память, а то свечей нет, только коптилка. В церкви пусто. Ни петь, ни читать, ни кадило раздувать некому. Зато можно всю ночь служить». Старца спросили: «А проповедь кому говорили? Ведь в храме пусто». На что он ответил: «Но ведь в темноте кто-то мог быть. Для них и говорил».

Владыка Зиновий всегда говорил: «Будьте щедрыми, не будьте жадными, и всегда Господь пошлет. Чем больше отдаешь, тем больше Господь посылает».

Архимандрит Клеопа (Илие) — известный румынский старец, великий духовник и наставник многих иноков и мирян, которые тысячами приходили к нему за духовной помощью. Стяжав на протяжении более чем полувека монашеского подвига огромный духовный опыт, старец Клеопа был так же любим и почитаем в своей стране и за ее пределами, как преподобный Серафим Саровский в России.

Архимандрит Ипполит (Халин) советовал духовным чадам: «Терпите. Главное — терпение. Живите чисто, ходите в церковь, молитесь. И Господь поможет». Архимандрит Кирилл (Павлов), сказал как-то одному благочестивому паломнику об отце Ипполите: «Самый добрый батюшка на земле».

«Спросите меня еще и еще раз: “Чувствовала ли ты когда-нибудь полноту жизни?” Я отвечу по десятому разу: “Да! Да! Да! В Грузии!” Особенно когда идешь по проспекту Руставели, и тебе двадцать с чем-то лет, и тебя узнают каштаны, и ты не чужая горе Мтацминда, и ты вдыхаешь этот воздух, полный баснословных обещаний и предчувствий, и в глазах у тебя праздник...»

В издательстве Сретенского монастыря в серии «Люди Божии» вышла книга «Архимандрит Алипий (Воронов)». В книге собраны наставления, советы отца Алипия и воспоминания людей, близко знавших его.

«Суть Евангелия выражена в кратком изводе проповеди Господа Иисуса Христа: “Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное”. Сам наш ум должен предстать пред Царством Небесным, только тогда мы увидим себя в настоящем состоянии и сможем покаяться».

Архимандрит Таврион (Батозский)
Архимандрит Таврион (Батозский) был одним из великих подвижников нашего времени, человеком святой жизни и большого дерзновения пред Господом. К нему ехали тысячи людей со всех концов Советского Союза за советом, молитвенной помощью и духовным окормлением. В книге собраны его наставления, советы, воспоминания о нем.
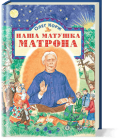
Эта книга – стихотворное изложение жития святой блаженной Матроны для детей. Автор в простой и доступной форме рассказывает обо всех значимых событиях из жизни почитаемой московской святой.

Иеросхимонах Иероним (Соломенцов)
На протяжении более ста лет иеросхимонах Иероним является одним из самых почитаемых подвижников в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Его мощи покоятся в особой усыпальнице вместе с честными останками игуменов и старцев монастыря. Собираются материалы для его канонизации.

Архиепископ Серафим — замечательный иерарх Русской Православной Церкви, известный своей высокой духовной жизнью, прозорливостью, молитвенным предстательством пред Господом за свою паству и трудами в защиту православия. Во многом он был подобен подвижникам первых веков христианства.

Великая Четыредесятница: путь, цель, награда
Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай
Эта книга — сборник бесед митрополита Месогейского и Лавреотикийского Николая, которые проходили на протяжении Великих Четыредесятниц 1997, 2005 и 2007 гг. за вечерними богослужениями. В основе всех бесед — учение о достижении добродетелей.

«Несвятые святые» и другие рассказы
Об этом прекрасном мире, где живут по совершенно иным законам, чем в обычной жизни, мире, бесконечно светлом, полном любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений, а самое главное, – о могущественных явлениях силы и помощи Божией.
Реквизиты счета и адреса: Московский Патриархат Сретенский
ставропигиальный мужской монастырь
107031, Москва, ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 1
Для переписки: 107031, Москва, а/я 87Тел. (495) 623-3444
Полное наименование: Религиозная организация «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7702141968 КПП 770201001 ОКПО 17668920 ОГРН 1027739660520
Юридический адрес: Москва, Большая Лубянка, 19 стр.1
Почтовый адрес: 107031 Москва, а/я № 87
Телефон: (499) 490-12-23, (495) 621-73-58
E-mail: mera@pravoslavie.ru; account@pravoslavie.ru
Для перечислений:
Получатель: Религиозная организация «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Расчетный счет: 40703810226800000034
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
Оформление договоров:
Наместник монастыря: Иеромонах Иоанн (Лудищев Дмитрий Владимирович) на основании Устава.
Главный бухгалтер: Иеромонах Ириней (Пиковский Иван Витальевич)
USD
BENEFICIARY’S BANK:
Bank «RRDB» (JSC)
SWIFT: RRDBRUMM
Account № 8900613882 (USD) with
The Bank of New York Mellon,
One Wall Street, New York, NY 10286, USA
SWIFT: IRVTUS3N
ABA 021000018
BENEFICIAR:
SRETENSKY MAN’S MONASTERY OF MOSCOW
Account: 40703840 7 0000 1000152
DONATION FOR (STATUTORY) ACTIVITIES
EUR
BENEFICIARY’S BANK:
Bank «RRDB» (JSC)
SWIFT: RRDBRUMM
Account № 55.047.419
with Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
IBAN: AT393100000055047419
BENEFICIAR:
SRETENSKY MAN’S MONASTERY OF MOSCOW
Account:40703 978 3 0000 1000 152
DONATION FOR (STATUTORY) ACTIVITIES







Здесь вы можете оставить к данной статье свой комментарий, не превышающий 700 символов. Все поля обязательны к заполнению.